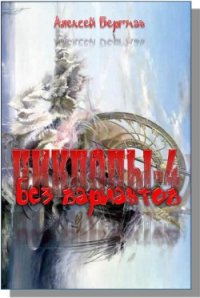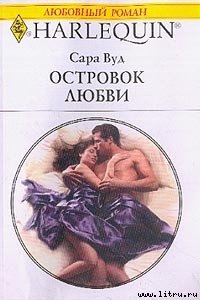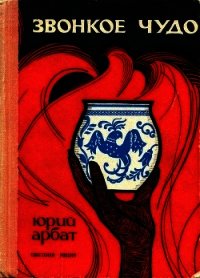Парадиз (СИ) - Бергман Сара (читаем книги онлайн бесплатно полностью txt) 📗
Верша судьбы в этом маленьком, пресном, всем безынтересном курятнике, Сигизмундыч не умел работать, а не умея работать, он устанавливал правила. Бессмысленные, бесполезные, всем действующие на нервы. В самый раз подходящие для этой фирмы. Фирмы с глупым названием, с глупым менеджментом, с дикой текучкой. Которую стряпали по зарубежным лекалам, наклеивали их суперклеем на совковую ментальность — получали на выходе балаган. Залакированный, замаскированный, дешевый, глупый, непродуктивный балаган. Позор и показуху.
И самым главным и важным здесь было прийти — прийти! — вовремя. Это потом можно болтать с приятелем, втихушку в одиночестве или в компании лазить по сайтам знакомств, разглядывая телок, коллекционируя гигабайты порнушных фоток, как делал это раньше Волков, пока не потерялся, не заблудился в манком запахе тела Зарайской, обсуждать футбол, машины, бабки. Читать, курить или пить кофе. Но прийти надо было вовремя! В этом этикет. В этом корпоративная правильность лицемерия.
Которая наверняка — простительно, искупительно, лизоблюдски — не распространялась на Зарайскую. Она могла себе позволить — ей было все равно.
Это всем остальным надлежало ползать на брюхе за одно только великое, необъятное счастье и честь работать в фирме «ЛотосКосметикс». Чем так гордился Дебольский.
И за что так молчаливо, лицемерно, скрытно секретно презирала его собственная жена.
— А я попрошу. Я уж постараюсь — я отработаю! Искуплю! Сделаю вам красиво. — В каком-то диком, необузданном восторге отрыва вскрикнул он. — А? Сделаем красиво? Весело, с блеском! Цыган с медведями позовем. Хочешь, я станцую? А? На столе. Чего стесняться-то? Главное, чтоб начальство было довольно. Все любят радовать начальство! — И говоря, опорожняясь, расхристывая и выпуская на волю всю скопившуюся, залакированную, зашлифованную хамскую наглость, он наступал на сморщенного шефа. — Чтобы изысканно. Вон как твоя фамилия. Краси-иво. Звучит! Это женина, да? — и доверительно, почти подавшись навстречу, почти понизив — повысив — голос, проговорил: — Знаешь, первый раз в жизни вижу мужика, который взял бы женину фамилию.
В кабинете повисла тишина. Жанночка замерла в углу. Прижимая папки к тощей груди. Антон-сан возле стола Зарайской смотрел удивленно и как-то сострадательно.
И почему-то это подхлестнуло бешенство Дебольского — ударило острой болью пониже пупка. Что его — взрослого успешного мужика — жалел какой-то педик с волосами-луковицей.
Зарайская слушала и молчала. Склонив голову набок, задумчиво стиснула зубами костяшку пальца: тонкие губы ее раскрылись, обнажив маленький вход в горячее сладкое нутро рта. И не отрывала от него глаз.
Один Попов — сумеречный конторский призрак, о котором все постепенно начали забывать, — не поднял головы. Для него ничего этого не существовало.
— Вы что, пьяны? — сморгнул Сигизмундыч. Испуганно, нелепо. Почти наивно. А еще пять минут назад его все боялись — боялся сам Дебольский, — когда он черными мохнатыми бровями вгонял женщин в слезы, а мужчин втаптывал в грязь — о! бешено неистовый маленький конторский фюрер.
Дебольский с мутным самоудовлетворением упал в кресло. Оно скрипнуло, колесики испуганно завертелись, откатив его до стены. А мятый, уставший, небритый Александр Дебольский, с исходящим от него острым запахом пота и секса, глянул на стол.
На бесконечные папки с бесконечным резюме, не имеющие ничего общего с его профессией. Ничего общего с тем, чем ему хотелось бы заниматься.
На всю эту унылую бескомпромиссную вальяжность и пустоту бездарно прошедших лет. Бессмысленной рутиной пожравшей его жизнь.
— Слушай, Сигизмундыч, — все так же громко в растерянной беспокойной тишине бросил он. — А зачем мы подбираем КАМов? Нет, правда, на кой черт? Нянчимся с ними, поим? — и ударил по папке: с отвращением, с мерзотной гадливостью и потливой усталостью. — Зачем? Они же все равно придут и свалят отсюда через два месяца, и все это знают. Ты знаешь, я знаю. Тут же никто никому не нужен. Я не нужен, ты не нужен. Сидим, делаем вид, что что-то делаем, собственную значимость показываем. Тебе не надоело? — посмотрел он в маленькие, по-бабски красивые, немужски высокопарные глаза. И добавил: — Мне вот надоело. Чего ради?
Чего ради?
Ради себя, семьи, Наташки, сына? Ради чего-то, что не нужно было ему даже само по себе?
Тонкие губы Зарайской дрогнули, опустившись уголками на задумчивом серьезном лице, сжались в узкую полоску. Она смотрела на его бунтующее бесчинство, и в глубине глаз ее плыла, теплилась дымная хмарь.
И острый нос туфли медленно раскачивался, повинуясь тонкой ломкой щиколотке: вперед — на-зад, впе-ред — назад. И Дебольский не мог оторваться от этого покачивания, сродного с толчками и фрикциями. Похожего на медленное, вытягивающее нервы совокупление.
— Александр Павлович, вы уже перешли границу. Вы отдаете себе отчет, что незаменимых людей не бывает? — и снова холодный голос Сигизмундыча вырвал, отобрал у его обоняния дымную горько-сладкую Зарайскую.
И Дебольский неожиданным для себя порывом опрощения выдернул из принтера чистый лист.
— Да, — бросил он сквозь зубы.
Его тошнило от этой конторы, от гнусного педика Антона-сан, от пошлого кретина Сигизмундыча, жена которого еблась с пацаном, от унылой бесцветности Жанночки, скупого домостроевского убожества Эльзы.
Ноздри его разъедал жаркий, желанный, алкаемый, нестерпимо горько-сладкий запах духов и ее цветов. В сознании, в крови и желудке смешанный с запахом ее юбки и белья.
Он выхватил из неряшливой кучи ручку с нелепым логотипом «ЛотосКосметикс» и размашисто, расчеркивая белый лист синими чернилами, написал: «Прошу уволить по собственному желанию».
Острое, мрачное наслаждение эректильной волной прошлось по его телу. И снова он посмотрел на Зарайскую. В глазах которой разливалась серая, хмарая безнадежность.
Дымить Дебольский пошел наверх, на балкон. Для того только, чтобы не встречаться ни с кем в курилке. Весь в каком-то мутном тошнотном неприятии окружающих. Не желая смеяться с теми, кто «еще не в курсе» и объясняться с теми, кто «а ты что, уволиться решил?»
Дебольский скрипнул дорогим алюминием тяжелой провисшей двери, которую редко кто открывал, ударил за спиной ее стеклянным телом и жадно затянулся чистым воздухом. Уже по-весеннему муторным, удушливо теплым.
А хотелось ветра.
Он сложил руки лодочкой и чиркнул зажигалкой. В ярком солнечном свете бетонно-металлически-стеклянная коробка «Лотоса» блестела как фальшивый брильянт. Топорщилась пафосными режущими воздушное пространство углами и острыми пиками металлоконструкций. Вычурным факом торча посреди пресной улицы.
Претенциозный, импозантный «Лотос»: дизайнерский, крутой, дорогой, — с балконом, в блеске стали опоясывающим третий этаж, стягивающимся к стеклянному переходу, — балансировал на грани между деревенской роскошью и тоскливой скаредностью Корнеева.
Потому что на самом деле никто никогда не выходил сюда даже дымить. На остром ветру уши рвало сигналами клаксонов и свистом покрышек, улийным гулом шумных улиц, топотом тысяч ног, прилетающих снизу и густящихся, концентрирующихся вокруг балкона.
Обтянутого подарочной лентой мглисто-бирюзового стекла и блестящей на солнце трубой парапета, похожей на обвес директорского внедорожника.
На которую чья-то наивная, заботливая рука поставила простую пластиковую коробку из-под мороженого. И аляповатая пошлость розовых шариков на ее дешево-белесых бортах, вонючая груда скуренных бычков плевала на мглисто-бирюзовое стекло и директорские обвесы. Который в свою очередь плевал на работников, не удосужившись поставить урны.
Дебольский, глядя на толкущиеся внизу на расстоянии трех этажей потоки машин, выпустил длинную сизую струю дыма.
В голове было пусто и гулко. Всем его существом владело муторное нетерпеливое раздражение. На свою жизнь, на оставшуюся за спиной семью, на работу, на контору, на Сигизмундыча.