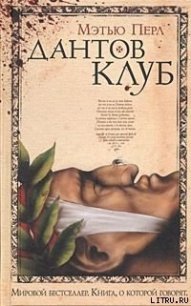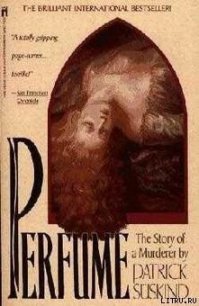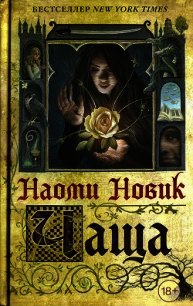Необъятный мир: Как животные ощущают скрытую от нас реальность - Йонг Эд (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .txt, .fb2) 📗
Однако зерно истины в доводах оппонентов есть: мы не можем принять за аксиому то, что испытывать боль или другой сознательный опыт способны все животные. Не всякая жизнь обязательно обладает сознанием. Оно возникает при наличии нервной системы, и если неокортекс для этого, может, и не требуется, то достаточно заметные вычислительные мощности все же нужны. Для сравнения: у крабов и омаров за ритмичные сокращения желудка отвечает пучок из примерно 30 нейронов, тогда как у червя-нематоды C. elegans есть всего 302 нейрона на все про все{313}. Способна ли нематода испытывать субъективные переживания, имея лишь на порядок больше нейронов, чем крабу требуется для одного только пищеварения? Маловероятно. «На каком-то этапе для этого просто перестает хватать мощности нервной системы, – говорит Робин Крук. – Но какую мощность считать достаточной?» 86 млрд нейронов, как у человека; 2 млрд, как у собаки; 70 млн, как у мыши; 4 млн, как у гуппи, или 100 000, как у дрозофилы? Крук подозревает, что 10 000 нейронов, как у голожаберного моллюска, будет маловато, но «никто вам не скажет, что нужно, например, минимум 10 057 нейронов», объясняет она.
Значение имеет не просто количество нейронов, но и связи между ними{314}. В человеческом мозге разные секции нашего кортикального оркестра соединены благодаря сотням тысяч нейронов. Эти связи и позволяют нам исполнять полнозвучную симфонию мучительного переживания, объединяя сенсорные сигналы с отрицательными эмоциями, дурными воспоминаниями и всем прочим в том же духе. Мозг насекомых связями не изобилует{315}. Ноцицепторы дрозофилы соединяются с отделом мозга, играющим ключевую роль в научении, – он называется грибовидным телом. Однако от грибовидного тела к другим отделам мозга ведет всего 21 исходящий нейрон. То есть муха вполне может научиться избегать ноцицептивного стимула, но прилагаются ли к этому уроку неприятные чувства, без которых немыслимы страдания у человека? У насекомых может в принципе не быть области мозга, отвечающей за обработку эмоций, такой как миндалевидное тело у человека. «Поэтому нам трудно понять, каким может быть субъективное ощущение боли у насекомого», – поясняет физиолог Шелли Адамо, изучающая поведение насекомых.
Но, с другой стороны, добавляет Адамо, откуда нам знать, как выглядит их эмоциональный центр? Учитывая, как мало мы понимаем в работе человеческого мозга, не говоря уже о прошивке мозга других животных, пока еще рановато делать категорические утверждения о том, какие неврологические особенности требуются для ощущения боли. Тем более что некоторые животные демонстрируют поведение, явно выходящее за пределы возможностей их примитивного мозга.
В 2003 г. в североирландском городе Киллили биолог Роберт Элвуд случайно разговорился в пабе со знаменитым шеф-поваром Риком Штайном. «Нас обоих интересуют ракообразные, – сказал он Штайну в какой-то момент. – Я изучаю их поведение, а вы их готовите». И Штайн тут же спросил: «А боль они чувствуют?» Элвуд предположил, что нет, но наверняка сказать не мог. И поскольку этот вопрос не давал ему покоя и после, он начал искать на него ответ. «Я подумал: разберемся быстренько и двинемся дальше, – вспоминает он. – Но вышло не так».
Элвуд изучал раков-отшельников, которые в изобилии водятся на европейских побережьях и прячут свое мягкое брюшко в бесхозных раковинах. Раковина для такого рака – огромная ценность, поскольку без нее он беззащитен. Но, как выяснили Элвуд и его коллега Мирьям Аппель, если бить рака слабым током, он покинет свое убежище{316}. Это бегство выглядело чисто рефлекторным, однако рак-отшельник бросал раковину не всегда. Чтобы выгнать его из предпочитаемой им витой раковины-литторины, требовался удар током посильнее, чем в случае менее желанной плоской раковины. А если раки чуяли в воде запах охотящихся на них хищников, вероятность бегства из раковины уменьшалась вдвое. «И я понял, что это не рефлекс», – рассказывает Элвуд. Бегство – это осознанное решение, которое рак-отшельник принимает, взвесив информацию из нескольких источников.
Кроме того, раки-отшельники еще довольно долгое время после удара током вели себя не так, как прежде. После бегства они, несмотря на свою уязвимость, не возвращались в раковину и нянчили тот участок брюшка, на который пришелся электрический разряд. И даже если рак не выселялся из раковины, он охотнее и быстрее принимал новую, обходясь без обычного в таких случаях тщательного обследования. Эти результаты, по словам Элвуда, вполне согласуются с гипотезой боли, однако нам неоткуда узнать, что в действительности чувствуют в этот момент ракообразные{317}. «Меня часто спрашивают, ощущают ли боль крабы и омары, – подытоживает Элвуд, – и теперь, отдав исследованиям пятнадцать лет, я отвечаю: "Может быть"».
Ракообразные – эволюционные кузены насекомых, обладающие настолько же примитивной нервной системой. Тем не менее у Элвуда раки-отшельники демонстрировали отнюдь не примитивное поведение. Чем объяснить такую нестыковку? Если действия животного не соответствуют предполагаемым возможностям его мозга, мы переоцениваем его поведение или недооцениваем его нервную систему? Снеддон и Элвуд доказывают второе. Шелли Адамо склоняется к первому. И совершенно непонятно, кто тут прав или правы все[104].
«Может быть, размеры мозга – это ложная улика, и зря мы с ними так носимся», – делится со мной Адамо. Сама она считает, что правильнее сосредоточить внимание на эволюционных выгодах и издержках боли. Под издержками она подразумевает энергетические затраты, а не муки. Эволюция подталкивала нервную систему насекомых к минимализму и эффективности, втискивая в крошечную головку и тельце как можно больше вычислительных мощностей{318}. Дополнительная психическая способность – допустим, сознание – требует больше нейронов, которые истощат и без того скудный энергетический бюджет. Эту цену живое существо будет готово заплатить, только если взамен получит важное преимущество. А какая выгода может быть от боли?
С эволюционным преимуществом ноцицепции все предельно ясно: это система сигнализации, позволяющая животному обнаруживать угрозу для здоровья или жизни и принимать меры для защиты. Происхождение боли гораздо менее очевидно. В чем адаптивная ценность страдания? Чем не устраивает простая ноцицепция?{319} Некоторые ученые предполагают, что неприятные эмоции могли усиливать и закреплять воздействие ноцицептивных ощущений, побуждая животных не просто сиюминутно спасаться от вредоносного фактора, но и учиться избегать его в дальнейшем. Ноцицепция голосит: «Уходи!» Боль добавляет: «И не возвращайся!» Но Адамо и другие доказывают, что животные прекрасно учатся избегать опасности безо всяких там субъективных переживаний. В конце концов, посмотрите на роботов.
Инженеры создали роботов, способных вести себя так, будто им больно, учиться на отрицательном опыте и избегать искусственно созданного дискомфорта{320}. В случае животных такое поведение расценивается как свидетельство боли. Однако роботы демонстрируют его без всяких субъективных переживаний. Это не значит, что мы вслед за Декартом провозглашаем животных бездумными и бесчувственными автоматами. Как говорит Адамо, «ни один робот не сможет сравниться по сложности с насекомым». Она имеет в виду, что нервные системы насекомых в своем эволюционном развитии стремились к тому, чтобы обеспечивать сложное поведение простейшими средствами, а роботы – это наглядный пример максимальной подобной простоты. Если нам удается запрограммировать их так, чтобы они выполняли все гипотетически обеспечиваемые болью адаптивные действия, не закладывая в эту программу сознание, наверняка эволюция – гораздо более виртуозный новатор, располагающий гораздо большим временем, – развивала минималистичный мозг насекомых в том же направлении. Поэтому Адамо и считает ощущение боли у насекомых (или ракообразных) маловероятным. По крайней мере, их ощущение боли будет сильно отличаться от нашего. То же самое относится к рыбам. «На мой взгляд, что-то у них должно быть, но что? – рассуждает Адамо. – Возможно, совсем не то, что у нас».