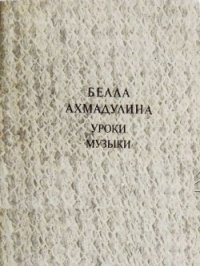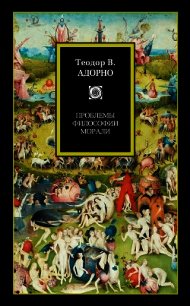Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
В одном из самых уязвимых мест в конце «Ожидания» приводится музыкальная цитата к словам «тысячи людей проходят мимо» [31]. Шёнберг позаимствовал ее из более ранней тональной песни, тема и контрапункт которой вплетены в свободно движущуюся голосовую ткань «Ожидания» более искусно, без прерывания атональности. Песня называется «На обочине» и принадлежит к группе произведений, помеченных ор. 6, в основе которых – сплошь стихотворения в стиле модерн (Jugendstil). Слова написал биограф Штирнера Джон Генри Маккей. В них зафиксирована точка пересечения стиля модерн и экспрессионизма; что же касается композиции песни, то при брамсовской фортепьянной фразе тональность оказалась поколеблена благодаря самостоятельным хроматическим дополнительным интервалам и контрапунктным столкновениям. Стихотворение звучит так: «Tausend Menschen ziehen voruber, / den ich ersehne, er ist nicht dabei! / Ruhlos fliegen die Blicke hinuber, / fragen den Eilenden, / ob er es sei… / Aber sie fragen und fragen vergebens. / Keiner gibt Antwort: «Hier bin ich. Sei still.» / Sehnsucht erfullt die Bezirke des Lebens, / welche Erfiillung nicht fullen will, / und so steh ich am Wegrand-Strande, / wahrend die Menge vortiberflieBt, / bis -erblindet vom Sonnenbrande – / mein ennudetes Aug' sich schlie?t» (Тысячи людей проходят мимо, / того, кого я страстно желаю, нет среди них! / Взоры беспокойно перелетают с одного на другого, / вопрошают каждого спешащего, / не он ли это… / Но они всё вопрошают и вопрошают напрасно. / Никто не дает ответа: «Вот я. Успокойся.» / Тоска наполняет все сферы жизни. / И это наполнение никогда не будет полным, / и так я и стою на обочине дороги, похожей на море, / и толпа течет мимо, / до тех пор, пока -ослепленные палящим зноем – / мои утомленные глаза не закроются»). Вот где формула стиля одиночества. Это одиночество принадлежит всем – одиночество городских жителей, которые теперь ничего не знают друг о друге. Жесты одиноких сравнимы между собой. Поэтому их можно цитировать: экспрессионист обнаруживает в одиночестве всеобщность [32]. Он цитирует даже там, где ничего не цитируется: место «Любимый, любимый, наступило утро» («Ожидание», такт 389 и след.) не скрывает, что происходит от «Засады» из второго акта «Тристана». Как и в науке, такая цитата является ссылкой на авторитет. Страх одинокого, прибегающего к цитированию, ищет опоры в имеющем вес. В экспрессионистских протоколах такой страх освободился от буржуазных табу на выразительность. Но когда он освобожден, ему уже ничто не препятствует отдавать себя в распоряжение сильнейшего. Положение абсолютной монады в искусстве включает в себя сразу и сопротивление дурному сообществу, и готовность к еще худшему.
И вот происходит неизбежный переворот. Он происходит именно оттого, что содержание экспрессионизма -абсолютный субъект – вовсе не абсолютен. В его изолированности предстает общество. Последний из мужских хоров Шёнберга, помеченный ор. 35, описывает это весьма просто: «Так оспорь же, что и ты к ним принадлежишь! – то, что не остаешься в одиночестве». Но такая «связь» проявляется в том, что выражения как таковые в своей изолированности играют роль межсубъективных элементов и при этом высвобождают эстетическую объективность. Всякая экспрессионистская связность, бросающая вызов традиционной категории произведения, приносит с собой новые требования, соответствующие принципу «так, и не может быть иначе», а тем самым – организации. При том, что выражение музыкальных взаимосвязей поляризуется по своим экстремумам, в последовательности экстремумов опять же устанавливается взаимосвязь. Значит, для контраста как закона формы не менее обязательны переходы к традиционной музыке. Двенадцатитоновую технику более позднего периода можно весьма неплохо определить как систему контрастов, как интеграцию несвязанного. Пока искусство сохраняет дистанцию между собой и непосредственно жизнью, оно не в состоянии перепрыгнуть через тень собственной автономии и имманентность формы. Экспрессионизму, враждебно настроенному по отношению к целостности произведения, при всей своей враждебности это удалось с тем меньшим успехом, что, именно разделываясь с коммуникацией, он кичится автономией, которая подтверждается единственно связностью произведения. Это-то неизбежное противоречие и препятствует утверждению экспрессионистской точки зрения. Если эстетический объект должен определяться как чистое «вот это», то как раз вследствие этого негативного определения происходит отказ от всего выходящего за пределы чистого «вот это», лежащего в основе эстетического объекта. Абсолютное освобождение особенного от всеобщего превращает его в своего рода всеобщее благодаря полемической и принципиальной связи с последним. Стало быть, определенное в силу собственной формы становится больше, чем просто обособление, ради которого оно создано. Даже выражающие шок жесты из «Ожидания» начинают походить на формулу, стоит им лишь раз повториться, притянув за собой окружающую их форму: такова заключительная песня в финале. Если непреложность построения созвучий называют объективностью, то объективность – не просто движение, сопротивляющееся экспрессионизму. Это экспрессионизм в своем инобытии. Экспрессионистская музыка позаимствовала у традиционно романтической музыки принцип выразительности с такой точностью, что он принял протокольный характер. Но в дальнейшем с ним происходит переворот. Музыка как протокол выразительности перестает быть «выразительной». Выражаемое больше не парит над ней в смутных далях и не освещает ее отблеском бесконечного. Стоит лишь музыке начать резко и однозначно фиксировать выраженное, т. е. собственное субъективное содержание, как это содержание застывает под ее взглядом, превращаясь как раз в то объективное, существование которого опровергает ее чисто выразительный характер. Протокольно настраиваясь на собственный предмет, сама она становится объективной. В музыкальных вспышках грезы о субъективности взрываются не меньше, чем условности. Протокольные аккорды разрывают субъективную видимость. Однако тем самым они в конечном счете устраняют собственную выразительную функцию. Что и с какой точностью они отображают в качестве объекта – безразлично: в любом случае это будет все та же субъективность, чары которой рассеиваются от точности взгляда, ориентирующего произведение на протокольные аккорды. Итак, протокольные аккорды превращаются в строительный материал. Это и происходит в «Счастливой руке». Она представляет собой свидетельство сочетания ортодоксального экспрессионизма с целостным произведением. Она признается в собственной причастности к архитектонике, включающей репризу, остинато и статические гармонии, равно как и лапидарный ведущий аккорд тромбонов в последней сцене [33]. Такая архитектоника отрицает музыкальный психологизм, который все же находит в ней свое завершение. Тем самым музыка, в отличие от текста, не только не отстает от уровня познаний экспрессионизма, но и переступает через этот уровень. Категория произведения как чего-то целого и нерушимо одноголосного не растворяется в той видимости, ложь которой изобличает экспрессионизм. Самой этой категории свойствен двоякий характер. Если для изолированного и совершенно отчужденного субъекта произведение раскрывается как иллюзия гармонии, примирения как такового и примирения с другими, то одновременно оно представляет собой инстанцию, призывающую к порядку дурную индивидуальность, принадлежащую к дурному обществу. Если индивидуальность критически относится к произведению, то и произведение критически относится к индивидуальности. Если случайный характер индивидуальности протестует против подлого общественного закона, благодаря которому возникла она сама, то произведение содержит наброски схем преодоления такой случайности. Оно является представителем правды общества, направленной против индивида, признающего неправоту этого общества и самого к ней причастного. То, что в равной степени преодолевает ограниченность субъекта и объекта, присутствует только в произведениях. Во мнимом примирении между собой субъект и объект осеняются отблеском реального. В своей экспрессионистской фазе музыка аннулировала притязания на тотальность. Но экспрессионистская музыка осталась «органичной», а также языком, субъективным и психологическим [34]. А это опять же доводит ее до тотальности. Если экспрессионизм вел себя недостаточно радикально в отношении суеверий, связанных с органичностью, то при ликвидации последней еще раз выкристаллизовалась идея произведения; экспрессионистское наследие с необходимостью достается произведениям.