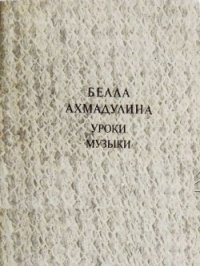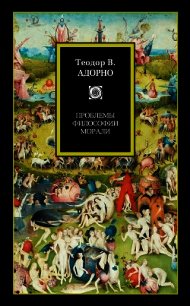Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
То, что могло получиться в результате этого, кажется безграничным. Пали все селективные принципы, суживающие тональность. Традиционная музыка чувствовала себя как дома с в высшей степени ограниченным количеством комбинаций тонов, тем более – по вертикали. Ей приходилось довольствоваться тем, что она постоянно сталкивалась с особенным через констелляции общего, в которых общее парадоксально предстает взору как тождественное уникальному. Все творчество Бетховена представляет собой комментарий к такой парадоксальности. В противоположность этому сегодня аккорды слились с несменяемыми требованиями их конкретного применения.
Никакие convenus [35] не воспрещают композитору употреблять созвучие, в котором он нуждается «здесь и только здесь». Никакие convenus не принуждают его пользоваться тем, что прежде было всеобщим. Вместе с раскрепощением материала возросла возможность овладевать им технически. Дело выглядит так, словно музыка вырвалась из-под власти последнего естественного принуждения, налагаемого на нее собственным материалом, и оказалась в состоянии свободно, осознанно и прозрачно располагать им. Вместе с эмансипацией созвучий произошла эмансипация композиторов. Различные измерения тональной западной музыки – мелодика, гармония, контрапункт, форма и инструментовка – исторически развивались в значительной мере независимо друг от друга, беспланово, а значит, и «как дикая поросль». Даже там, где одно выступало в функции другого, как, например, мелодика в функции гармонии в продолжение романтического периода, одно фактически не происходило из другого, а они просто приравнивались друг к другу. Мелодика «перефразировала» гармоническую функцию, а гармония дифференцировалась, служа мелодическим нюансам. Но даже освобождение мелодики от своего прежнего трезвучного характера с помощью романтической песни остается в рамках гармонической всеобщности. Слепота, с которой происходило развитие музыкальных производительных сил, особенно после Бетховена, привела к диспропорциям. Когда бы в ходе истории ни развивались изолированные материальные области, непременно оставались и другие материальные области, уличавшие единство произведения в прогрессирующей лжи. В годы романтизма это касалось прежде всего контрапункта. Он представлял собой всего лишь «придачу» к гомофонной части произведения. Он остается придатком либо к поверхностной комбинации гомофонно задуманных тем, либо к чисто орнаментальной отделке гармонического «хорала» мнимыми голосами. Это в равной степени относится к Вагнеру, Штраусу и Регеру. Но в то же время всякий контрапункт – согласно собственному смыслу – упорствует в одновременности самостоятельных голосов. Если же он об этом забывает, он становится плохим контрапунктом. Разительные примеры здесь – «слишком хорошие» позднеромантические контрапункты. Они продуманы и с мелодической, и с гармонической стороны. Но они выступают в роли главного голоса и там, где имеют право быть лишь частями голосовой структуры. Поэтому они делают голосовой ход неотчетливым и дезавуируют конструкцию назойливым песенным жеманством. Но такие диспропорции не ограничиваются техническими деталями. Они превращаются в исторические силы целого. Ибо чем больше развиваются отдельные материальные области, а многие из них – как в романтизме инструментальные созвучия и гармония – сливаются, тем отчетливее вырисовывается идея рациональной сплошной организованности всего музыкального материала, которая устранит эти диспропорции. Такая сплошная организованность отчасти была присуща уже всей совокупности произведений Вагнера; ее претворил в жизнь Шёнберг. В его музыке все измерения не просто развивались в равной степени, но еще и каждое продуцировалось из другого вплоть до конвергенции. Уже в экспрессионистский период такая конвергенция грезилась Шёнбергу, например, в понятии тембровой мелодии (Klangfarbenmelodie). Оно означает, что чисто инструментальная смена оттенков идентичных звуков может наделяться мелодической силой без того, чтобы происходило что-либо мелодическое в прежнем смысле. Впоследствии будут искать общий знаменатель для всех измерений музыки. Таково происхождение додекафонической техники. Ее кульминация заключается в воле к устранению основополагающего противоречия в западной музыке – противоречия между полифонической сущностью фуги и гомофонной сущностью сонаты. Так его сформулировал Веберн, имея в виду свой последний струнный квартет. Шёнберга когда-то воспринимали как синтез Брамса и Вагнера. В их позднейших произведениях музыка метит еще выше. Глубинный принцип их алхимии – стремление к сочетанию Баха с Бетховеном. Именно такова цель восстановления контрапункта. Но это восстановление опять же терпит неудачу в силу утопичности упомянутого синтеза. Специфичная сущность контрапункта, отношение к некоему предзадан-ному cantus firmus, ветшает. Как бы там ни было, поздняя камерная музыка Веберна уже не знает контрапункта: ее скудные звуки представляют собой остатки того, что еще осталось от слияния вертикали и горизонтали, своего рода памятники музыки, немеющей в полной нейтральности.
И как раз противоположность идее рациональной сплошной организованности произведения, идее «безучастности» материальных измерений по отношению друг к другу в произведениях характеризует творческие методы, например, Стравинского и Хиндемита как реакционные. И притом как технически реакционные, что, в первую очередь, означает несоотнесенность с общественной ситуацией. Виртуозничанье (Musikantentum) представляет собой ловкое хозяйничанье в осколочной материальной области вместо конструктивной последовательности, подчиняющей все пласты материала одному и тому же закону. Эта ловкость в своей заматерелой наивности сегодня стала агрессивной. Интегральная организованность произведения искусства, противостоящая виртуозной сноровке, сегодня является его единственно возможной объективностью – и это как раз продукт той самой субъективности, какую виртуозничающая музыка изобличает в «случайном характере». Пожалуй, аннулированные сегодня условности не всегда были столь уж внешними по отношению к музыке. Поскольку в них запечатлен опыт, некогда бывший живым, то с грехом пополам свою функцию они выполняли. Имеется в виду организационная функция. И ее-то отняла у них автономная эстетическая субъективность, которая стремится свободно организовать произведение искусства, исходя из себя самой. Переход музыкальной организации к автономной субъективности свершается в силу технического принципа проведения или разработки тем (Durchfuhrung). Сначала, в восемнадцатом веке, этот принцип был незначительной частью сонаты. Единожды выдвинутые темы принимались за наличествующие, и на них испытывались субъективное освещение и динамика. А вот у Бетховена разработка темы, субъективное раздумье над темой, определяющее ее судьбу, превратились в центр всей формы. Разработка темы оправдывает форму даже там, где последняя остается в виде предзаданной условности, потому что разработка темы спонтанно и вторично порождает форму. Этому способствует довольно старое и как бы доставшееся в наследство средство, чьи латентные возможности раскроются лишь на более поздней фазе. В музыке остатки прошлого зачастую превосходят по уровню достигнутое в определенный момент состояние техники. Разработка тем вспоминает о вариации. В добетховенской музыке – при ничтожном количестве исключений -последняя относилась к крайне поверхностным техническим приемам и была всего-навсего маскировкой материала, самотождественность которого сохранялась. Теперь же, в связи с разработкой тем, вариация начинает служить установлению универсальных, конкретных и несхематических связей. Она динамизируется. Пожалуй, даже сейчас она придерживается самоидентичности исходного материала – Шёнберг называет его «моделью». Здесь всё «одно и то же». Но смысл этой самотождественности отражается как нетождественность. Исходный материал здесь такого рода, что сохранять его – все равно что одновременно его видоизменять. Значит, он «существует» отнюдь не сам по себе, а только в связи с возможностью целого [36]. Верность требованиям темы означает ее существенные изменения в каждый момент. Вследствие такой нетождественности тождественности музыка обретает совершенно новое отношение ко времени, в котором она всякий раз развертывается. Она теперь небезразлична ко времени, поскольку не повторяется в нем как угодно, а видоизменяется. Но она еще и не становится добычей времени как такового, так как отстаивает в этом видоизменении самоидентичность. Понятие классического в музыке определяется через такое парадоксальное отношение ко времени. Это отношение, однако, в то же время включает ограничение принципа разработки тем. Лишь когда разработка тем станет не тотальной, лишь когда ей не будет предзадано нечто подчиненное, музыкальная вещь в себе в кантианском духе, музыка будет в состоянии заклинать и устранять властную бессодержательность времени. При этом играющая решающую роль вариация довольствуется сонатной разработкой тем как одной из собственных «частей» и чтит экспозицию и репризу в наиболее неукоснительных произведениях бетховенской «классики», например, в Героической симфонии. И все же впоследствии, именно в силу растущего преобладания тех динамических сил субъективной выразительности, что разрушают остатки условностей, бессодержательный бег времени становился для музыки все более угрожающим. Субъективные моменты выражения вырываются за пределы временного континуума. Теперь их невозможно укротить. Чтобы противостоять времени, вариативная разработка тем распространяется на всю сонату. Проблематичная целостность последней реконструируется из универсальной разработки тем. У Брамса разработка тем из владения сонаты уже превращается в общее достояние. Субъективация скрещивается с объективацией. Брамсова техника объединяет обе тенденции подобно тому, как она сжимает в единое целое лирическое интермеццо и академическую часть произведения. В пределах тональности Брамс в широком масштабе разделывается с условными формулами и рудиментами, и как бы каждый момент заново, исходя из свободы, продуцирует единство произведения. Тем самым он одновременно является адвокатом всесторонней экономии, отвергающей все случайные моменты музыки и все-таки развивающей крайнюю сложность, причем как раз ту, что возникает из материала, оставшегося самоидентичным. Теперь не существует ничего нетематического, ничего, что невозможно было бы понимать как производное от самотождественного, каким бы латентным последнее ни было. Когда бетховенско-брамсовскую тенденцию перенимает Шёнберг, он может притязать на наследие классической буржуазной музыки в смысле, весьма похожем на тот, в каком материалистическая диалектика соотносится с Гегелем. Однако же, оправданием познавательной силы новой музыки служит не то, что она восходит к «великому буржуазному прошлому», к героическому классицизму революционного периода, а то, что она технически, а значит, в соответствии с собственной субстанциальностью, устраняет в самой себе романтическую дифференцированность. Субъектом новой музыки – о чем гласит ее протокол – является эмансипированный, одинокий [37] реальный субъект позднебуржуазной фазы. Эта реальная субъективность и радикально оформленный ею материал образуют для Шёнберга канон эстетической объективации. Они задают меру глубины Шёнберга. У Бетховена и у последнего в этом ряду Брамса единство мотивно-тематической работы достигалось в своего рода уравновешивании субъективной динамики традиционным – «тональным» – языком. Субъективная организация вынуждает условный язык высказываться вторично, при этом существенно не изменяя его как язык. На линии, ведущей от романтиков к Вагнеру, изменение языка достигается в ущерб объективности и обязательности самой музыки. Мотивно-тематическое единство она раздробила на песни, а затем нашла ему неполноценный заменитель в виде лейтмотива и программы. Шёнберг первым обнаружил принципы универсальных единства и экономии в самом по-вагнеровски новом, субъективном и эмансипированном материале. Его произведения содержат доказательство того, что чем последовательнее соблюдается введенный Вагнером номинализм музыкального языка, тем с большим успехом этим языком можно рационально овладеть. Овладеть вследствие имманентных ему тенденций, а не уравновешивающего такта и вкуса. Лучше всего это можно проследить по связи между гармонией и полифонией. Полифония – это средство, наиболее подходящее для организации эмансипированной музыки. В эпоху гомофонии организация музыки осуществлялась через convenus аккордов [38]. Но как только последние упраздняются вместе с тональностью, каждый аккордообразующий тон сам по себе представляется случайностью до тех пор, пока его не легитимирует голосоведение, т. е. полифония. Поздний Бетховен, Брамс, а в определенном смысле – и Вагнер, пускали в ход полифонию, стремясь компенсировать то, что тональность утратила формообразующую силу и формульно застыла. Однако Шёнберг в конечном счете перестал утверждать принцип полифонии в качестве принципа, гетерономного эмансипированной гармонии, или же способствующего только примирению с ней. Он открывает в нем сущность самой эмансипированной гармонии. Изолированный аккорд, который в классико-романтической традиции выступал носителем субъективной выразительности и полюсом, противоположным полифонической объективности, включается в свою собственную полифонию. И средством для этого служит не что иное, как крайность романтической субъективации – диссонанс. Чем больше аккорд диссонирует, чем больше содержит он в себе различных и в своем разнообразии эффективных тонов, тем он «полифонич-нее», тем больше – как некогда доказывал Эрвин Штейн -каждый отдельный тон уже в одновременности созвучия приобретает характер «голоса». Преобладание диссонанса, на первый взгляд, разрушает рациональные, «логические» связи в пределах тональности, простые отношения трезвучий. Тем не менее, диссонанс все-таки рациональнее консонанса в той мере, в какой он артикулированно являет слуху наличествующие в нем сколь угодно сложные тона, вместо того, чтобы покупать их единство ценой устранения содержащихся в нем частичных моментов, ценой «гомогенизации» созвучий. Но ведь именно диссонанс и родственные ему категории образования мелодий с помощью «диссонирующих» интервалов являются подлинными носителями протокольного характера выразительности. Вот так субъективный натиск и потребность в подлинном открытии собственного «Я» превращаются в технический органон объективного произведения. И наоборот, эти рациональность и единообразие материала опять же, в первую очередь, отдают покорившийся материал в полное распоряжение субъективности. В той музыке, где каждый отдельный тон прозрачно обусловливается конструкцией целого, исчезает различие между существенным и случайным. Во всех своих моментах такая музыка как бы одинаково близка к собственной центральной точке. При этом формальные условности, некогда регулировавшие близость к центру и удаленность от него, утрачивают смысл.