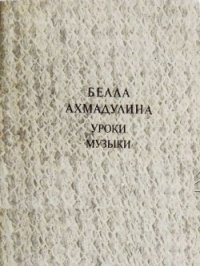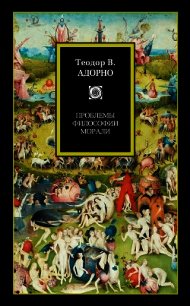Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
Неудачей технического произведения искусства характеризуются все измерения композиторского дела. Скованность музыки в результате ее освобождения от оков, свершившегося ради безграничного господства над природным материалом, становится универсальной. Это немедленно проявляется в определении основных рядов через двенадцать тонов хроматической гаммы. Невозможно уразуметь, отчего каждая из таких основных фигур должна содержать все двенадцать тонов, не пропуская ни одного, и почему тонов лишь двенадцать и какой-либо из них нельзя применять повторно. В действительности, пока Шёнберг разрабатывал технику хроматических рядов, в Серенаде он работал и с основополагающими фигурами, содержавшими менее двенадцати тонов. А у того, что впоследствии он повсюду пользовался всеми двенадцатью тонами, есть свое основание. Ограничение целой пьесы интервалом основного ряда подталкивает к выстраиванию последнего по возможности широко, чтобы пространство тонов было как можно менее тесным, в результате чего станет осуществимым максимальное количество комбинаций. А правило не использовать больше двенадцати тонов, пожалуй, можно объяснить стремлением не давать ни одному из них перевеса в силу его большей встречаемости, что превратило бы его в «основной тон» и могло бы накликать всплывание тональных связей. Тем не менее, как бы тенденция ни стремилась к числу двенадцать, убедительно вывести его обязательность невозможно. Двенадцатитоновая техника привела к трудностям, вину за которые разделяет гипостазирование числа. Правда, именно число должна благодарить мелодика за то, что она освободилась не только от господства конкретного тона, но и от лжеестественного принудительного воздействия ведущего тона, от автоматизированной каденции. Из-за преобладания малой секунды и образованных от нее интервалов большой септимы и малой ноны свободная атональность сохранила хроматический момент, а имплицитно – и момент диссонанса. Теперь эти интервалы уже не обладают преимуществом над остальными – разве что с помощью построения рядов композитор пожелает ретроспективно восстановить такое преимущество. Сама мелодическая фигура обретает такую законность, какой она едва ли обладала в традиционной музыке, когда ей приходилось оправдывать себя, переписывая традиционные руководства по гармонии. Теперь мелодия – при условии, что она, как в большинстве шён-берговских тем, совпадает с рядом – сплачивается воедино тем успешнее, чем больше она приближается к концу ряда. С каждым новым тоном выбор неиспользованных тонов делается все меньше, а когда наступает очередь последнего – выбора не остается вообще. Здесь нельзя не заметить элемента принуждения. И коренится он не только в расчете. Слух спонтанно замечает давление. Но упомянутое принуждение «хромает». Замкнутость мелодики замыкает ее чересчур плотно. В каждой двенадцатитоновой теме – да позволительно будет выразиться с преувеличением – есть что-то от рондо, от рефрена. И показательно, что в додекафонических сочинениях Шёнберга с такой охотой буквально или по духу цитируется архаично-нединамичная форма рондо, или же близкая к ней по сути, подчеркнуто простодушная форма alia breve. Мелодия имеет слишком готовый вид, и слабость концовки, вложенной в двенадцатый тон, может компенсироваться ритмическим размахом, но едва ли – взаимным притяжением самих интервалов. Воспоминание о традиционных чертах рондо функционирует как эрзац имманентного потока, оказавшегося перерезанным. Шёнберг указывал на то, что в традиционной теории композиции, по существу, речь идет лишь о началах и концовках, но никак не о логике продолжения. Но тем же недостатком страдает и додекафоническая мелодика. В том, как она трактует продолжение, всегда проявляется момент произвола. Чтобы осознать, как плохи дела с продолжением, следует лишь взять начало Четвертого струнного квартета Шёнберга и сравнить продолжение его основной темы посредством обращения интервала (такт 6, вторая скрипка) и ракоходного движения (такт 10, первая скрипка) с чрезвычайно резко обрывающимся первым тематическим вступлением. Это наводит на мысль о том, что после завершения двенадцатитонового ряда его вообще невозможно вести дальше «из самого себя», а можно лишь через внешние ухищрения. При этом слабость продолжений тем значительнее, чем больше сами продолжения отсылают к исходному ряду, который сам по себе оказывается исчерпанным и, как правило, по-настоящему совпадает с образованной из него темой лишь при первом своем появлении. Будучи всего-навсего производным от темы, продолжение дезавуирует стойкое притязание додекафонической музыки на то, чтобы во все моменты находиться на одинаково близком расстоянии от центра. В большинстве существующих двенадцатитоновых композиций продолжения настолько же основательно отклоняются от тезиса об основной фигуре, насколько в позднеромантической музыке разработка темы – от вступления [50]. Между тем, принудительный характер рядов вызывает и гораздо более худшую беду. Мелосом овладевает механический шаблон [51].Подлинное качество той или иной мелодии всегда измеряется по тому, удается ли выразить квазипространственные отношения временными интервалами. Додекафо-ническая техника разрушает такие связи в самых глубинах. Время и интервал расходятся между собой. Совокупность интервальных отношений раз и навсегда переносится на основной ряд и производные от него. В поведении интервалов не проявляется ничего нового, а вездесущность рядов делает их непригодными для выражения временных взаимосвязей. Ведь эти взаимосвязи формируются только через различающееся, а не через беспримесную самотождественность. Но тем самым мелодическая связность отсылается к экстрамелодическому средству. Имеется в виду обособившаяся ритмика. В силу своей вездесущности ряд утрачивает специфику. Поэтому мелодическая конкретность распадается на застывшие и характерные ритмические фигуры. А определенные непрерывно повторяющиеся ритмические конфигурации принимают на себя роль тем [52]. Поскольку же мелодическое пространство таких ритмических тем всякий раз обусловлено рядом, а темы должны любой ценой обходиться наличными тонами, то именно ритмы упорствуют в своей застылости. И в конце концов в жертву тематическому ритму приносится мелос. Не заботясь о содержании ряда, тематические и мотивные ритмы непрерывно повторяются. Поэтому в Шёнберговых рондо существует практика при каждом вхождении рондо в тематический ритм образовывать другую мелодическую форму ряда и вследствие этого достигать результатов, походящих на вариацию. Однако событием является ритм, и только он. И безразлично – подпадает ли эмфаза или необычайная отчетливость под тот или иной интервал. В отличие от обычных случаев, здесь уже невозможно уловить, что интервалы ведут себя по отношению к тематическому ритму иначе, нежели в первый раз, так как сознание больше не улавливает мелодических модификаций. А значит, ритм обесценивает специфически мелодическое. В традиционной музыке минимальное отклонение от заданного интервала может решающим образом повлиять не только на выразительность отдельного места, но и на формальный смысл целой части произведения. В противоположность этому, в двенадцатитоновой музыке царят полное погрубение и обнищание. Некогда в интервалах без всяких недоразумений решался весь смысл музыки: Еще Нет, Сейчас и После Того; обещанное, исполненное и упущенное; соблюдение меры и мотовство; пребывание в пределах формы и трансцендирование музыкальной субъективности. А вот теперь интервалы превратились попросту в кубики, и весь опыт, позволявший вдаваться в различия между ними, кажется утраченным. Пожалуй, сегодня научились освобождаться от ступенчатого хода секунд и от равномерности консонирующих шагов; пожалуй, дали равные права трезвучиям, большой септиме и всем интервалам, превосходящим октаву, но ценой того, что все новое вместе со старым оказалось нивелированным. В традиционной музыке тонально ограниченному слуху могла с трудом даваться интеграция непомерно больших интервалов в мелодические моменты. Сегодня такой трудности больше нет, но достигнутое слилось с привычным в однообразии. Мелодическая деталь спустилась на уровень всего лишь следствия общей конструкции и совершенно не в состоянии выйти за рамки последней. Она превратилась в образ именно такого технического прогресса, который заполонил весь мир. И даже то, что как-то удавалось в мелодическом смысле – могущество Шёнберга снова и снова делает невозможное возможным, – уничтожалось насилием, учиняемым над только что прозвучавшей мелодией, когда в следующий раз к ее ритму безжалостно прилагались другие интервалы, которые зачастую утрачивали связь не только с первоначальным интервалом, но и с самим ритмом. Больше всего опасений внушает здесь тот тип мелодической приблизительности, который хотя и сохраняет очертания прежней мелодии, т. е. в аналогичном по ритму месте ставит в соответствие большому или малому скачку такой же скачок, но случается это лишь в категориях «большого» или «малого», так что и речи не заходит о том, измеряется ли он большой ноной или же децимой. У Шёнберга среднего периода такие вопросы не рассматривались вообще, поскольку всякое повторение было исключено. Но ведь и реставрация повторения сочетается с пренебрежением к повторенному. Правда, здесь двенадцатитоновую технику можно назвать не рациональным источником зла, а с гораздо большим основанием – завершительницей тенденции, берущей начало в романтизме. Бесцеремонное обращение Вагнера с мотивами – а он творил их так, что они противоречили методу вариаций, – представляет собой праформу метода Шёнберга. Вагнеровский метод отсылает к основополагающему техническому антагонизму после-бетховенской музыки – противоречию между предзадан-ной тональностью, каковую надо непрерывно «подтверждать», и субстанциальностью единичного. Если Бетховен создал музыкально сущее из ничего, чтобы быть в состоянии определить его в целом как становящееся, то поздний Шёнберг уничтожает его как ставшее.