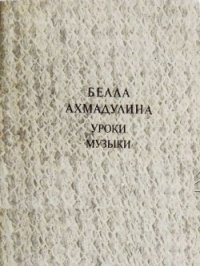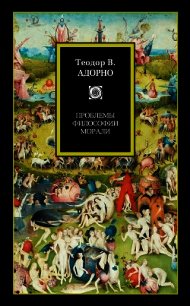Философия новой музыки - Адорно Теодор В. (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
Они воспринимаются не в додекафонической системе, а как раз тонально. Композиторы не в силах вызвать забвение исторических импликаций материала. Вместе с табуированием гармонии трезвучий свободная атональность распространила диссонансы по всей музыке. И вот не осталось ничего, кроме диссонансов. Вероятно, реставрационный момент двенадцатитоновой техники ни в чем не проявляется так отчетливо, как в нестрогости запрета на консонансы. Пожалуй, можно сказать, что универсальность диссонанса упразднила само это понятие: диссонанс возможен лишь при напряжении по отношению к консонансу, а как только он перестает противопоставляться консонансу, он попросту превращается в комплекс из нескольких тонов. А это упрощает ситуацию. Ибо в созвучии, состоящем из нескольких тонов, диссонанс подвергается «снятию» исключительно в двояком гегелевском смысле. Что касается новых созвучий, то они не являются безобидными преемниками прежних консонансов. От последних они отличаются тем, что их единство само по себе сочетается с полной расчлененностью, тем, что, хотя отдельно взятые тона аккордов образуют нечто вроде аккордов, в то же время в этих подобиях аккордов каждый тон в отдельности противопоставлен всем другим. Так они и продолжают «диссонировать», но не по отношению к упраздненным консонансам, а в самих себе. Тем не менее, они при этом сохраняют исторический образ диссонанса. Диссонансы возникли как выражение напряжения, противоречия и боли. Они седиментировались и стали «материалом». Они больше не служат средствами субъективной выразительности. Но вследствие этого они все же не оспаривают собственное происхождение. Диссонансы сделались знаками объективного протеста. Необъяснимое счастье этих созвучий заключается в том, что как раз в силу их превращения в материал они господствуют над страданием, которое они некогда возвещали, ибо сохраняют его. Их негативность хранит верность утопии; она включает в себя скрытые консонансы. Отсюда страстная нетерпимость новой музыки к любым подобиям консонансов. В шутке Шёнберга, состоящей в том, что «Лунное пятно» в «Пьеро» написано по строгим правилам контрапункта, а консонансы допускаются лишь в проходящих нотах и в безударных тактовых долях, чуть ли не непосредственно воспроизводится существенный опыт. Двенадцатитоновая техника не в состоянии выразить его. Диссонансы становятся тем, что Хиндемит в своем «Учебнике музыкальных фраз» назвал отвратительным выражением «рабочий материал» (Werkstoff), обыкновенными квантами, бескачественными и неразличимыми, и потому их якобы следует подгонять к чему угодно в зависимости от требований схемы. Следовательно, материал возвращается назад в природу, к физическим отношениям между звуками, и именно такой возврат к прежнему подчиняет додекафоническую музыку природной непреложности. Улетучивается не только очарование, но и сопротивление. Сколь слабо тяготеют созвучия друг к другу, столь же слабо они направлены и против целого, в роли коего выступает мир. В их нанизывании пропадает та глубина музыкального пространства, которую, казалось, впервые приоткроет именно дополнительная гармония.
Диссонансы стали настолько безучастными ко всему, что им уже не мешает соседство консонансов. Трезвучия в конце «Пьеро» шокирующим образом показали диссонансам их недостижимую цель, и нерешительная бессмысленность диссонансов уподобилась слабо брезжущему на востоке зеленому горизонту. В теме медленной части Третьего квартета консонансы и диссонансы равнодушно располагаются друг за другом. Теперь они даже не способствуют отсутствию чистоты звучания.
О том, что распад гармонии обусловлен не недостаточно гармоническим сознанием, а силой тяготения двенадцатитоновой техники, можно заключить по тому измерению, которое издавна было сродни гармоническому, а теперь, как и в вагнеровскую эпоху, проявляет те же симптомы, что и гармония: имеется в виду звучание инструментов. Сплошная сконструированность музыки позволяет проводить конструктивную инструментовку в небывалом объеме. Обработки произведений Баха Шёнбергом и Ве-берном, где связи между мотивами скрупулезнейшим образом сначала переводятся с языка композиции на язык тембра и лишь затем реализуются, были бы невозможны без двенадцатитоновой техники. Удовлетворение выдвинутого Малером постулата отчетливой инструментовки, а именно без дублирования и без плавающего трубного пе-далирования, возникло только благодаря опыту двенадцатитоновой техники. Подобно тому как диссонирующий аккорд не только включает каждый содержащийся в нем тон, но еще и сохраняет его отличия от других, теперь в инструментовке стала возможной реализация не только сбалансированного звучания всех голосов по отношению друг к другу, но и пластики каждого в отдельности. Доде-кафоническая техника абсорбирует все богатства композиционной структуры и переводит их в тембровую структуру. Но последняя, в отличие от позднеромантической, никогда не проявляет своеволия перед композицией. Она становится исключительно служанкой композиции. Однако же, это в конечном счете так ограничивает тембровую структуру, что вклад ее в сочинение музыки непрерывно уменьшается, а измерение звучания, которое было продуктивным измерением композиторского дела в эпоху экспрессионизма, отпадает. В программе Шёнберга среднего периода нашлось место «тембровой мелодии». Тем самым подразумевалось, что смена тембра сама по себе является событием для композитора и должна определять развитие композиции. Инструментовка же представала в виде нетронутого пласта, подпитывавшего фантазию композитора. Примерами этой тенденции служат Третья оркестровая пьеса из ор. 16, а также светозарная музыка из «Счастливой руки». Ничего подобного двенадцатитоновая техника не осуществила, и еще вопрос – по силам ли ей это было. Ведь упомянутая оркестровая пьеса с «меняющимся аккордом» предполагает субстанциальность гармонического события, каковая отрицается двенадцатитоновой техникой. С точки зрения последней мысль о тембровой фантазии, вносящей вклад в композицию из самой себя, считается преступлением, а страх перед тембровыми удвоениями, изгоняющий все, что не представляет композицию в чистом виде, порождает не только ненависть к «дурному» богатству позднеромантической колористики, но и аскетическую волю к подавлению всего, что выходит за рамки конкретного пространства двенадцатитоновой композиции. Ибо последняя решительно не допускает применения «каких угодно» тембров. И созвучия, пусть даже сколь угодно дифференцированные, превращаются в то, чем они были, прежде чем ими овладела субъективность: они всего-навсего регистрируются. Разительные примеры другого рода можно найти в ранний период додекафонической техники: Квинтет для духовых напоминает об органной партитуре, хотя то, что он был написан именно для голосов духовых инструментов, может служить цели той самой регистрации. В противоположность более ранней камерной музыке Шёнберга, в нем больше нет специфической инструментовки. Да и в Третьем квартете принесены в жертву все тембры, которые Шёнберг подарил струнникам, в первых двух. Звучание этого квартета стало чем-то второстепенным по сравнению с весьма выросшим уровнем композиторского мастерства, в особенности по сравнению с использованием широких регистров. Впоследствии, начиная с Оркестровых вариаций, Шёнберг начал пересматривать свои позиции и пожаловал колористике больше прав. В особенности же теперь не утверждалось преимущество кларнетов, определяющим образом характеризовавшее тенденцию к регистрации. Тем не менее, цветовая палитра поздних произведений Шёнберга носит компромиссный характер. И исходит она не столько из самой двенадцатитоновой структуры, сколько из «части сочинения», т. е. из интересов пояснения. Но сами эти интересы двусмысленны. Вследствие их исключаются все музыкальные пласты, в которых, согласно собственным притязаниям композиции, требуется не ее отчетливость, а как раз противоположное, и тем самым вне зависимости от обстоятельств провозглашается новомодный постулат «соответствия материалу», материальный фетишизм которого столь близок двенадцатитоновой технике, в том числе и в отношении к ряду. Если в тембрах оркестровки позднего Шёнберга структура композиции освещена так же, как на сверхрезких фотографиях освещены изображенные на них предметы, то самим тембрам «сочинять музыку» запрещено. В результате получаются искрящиеся, но замкнутые созвучия с непрестанно меняющимися светом и тенью, что похоже на в высшей степени сложную машину, буксующую при головокружительном движении всех ее деталей. Созвучия стали столь же отчетливыми, аккуратными и отполированно-пустыми, как позитивистская логика. В них открылась умеренность, маскировавшаяся жесткой двенадцатитоновой техникой. Пестрота и надежная уравновешенность этих созвучий робко отрекаются от хаотических вспышек, из которых они с трудом вырвались, и соглашаются с образом порядка, непримиримо оспариваемого всеми подлинными импульсами новой музыки, хотя именно его им самим с неизбежностью приходится готовить. Протокол грез затихает, превращаясь в протокольную фразу.