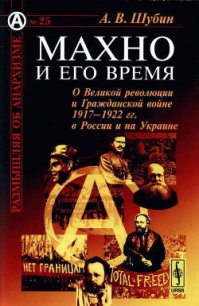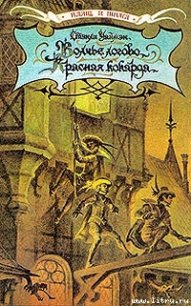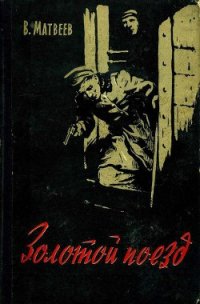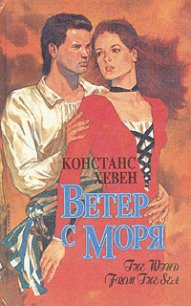Три портрета эпохи Великой Французской Революции - Манфред Альберт Захарович (книги онлайн бесплатно серия .TXT) 📗
Он и в самом деле знал то, о чем эти важные господа не догадывались. Они были так погружены в повседневное светское щебетание, мелкие дворцовые интриги, столкновения соперничающих честолюбий, мелочные пересуды, что давно разучились слышать голос времени, голос своей страны.
Зоркое зрение и тонкий, все запоминающий слух дали Руссо особую восприимчивость к звукам, к краскам увиденного им мира, к шуму времени. Он сумел расслышать в многоголосой полифонии эпохи ведущий и все нарастающий лейтмотив — близящееся грозное возмущение народа, подспудный гул приближающегося революционного взрыва огромной силы.
Бескомпромиссная непримиримость Руссо к сильным мира сего, его убежденный демократизм и республиканизм шли не столько от книг, сколько от собственного жизненного опыта, от всего, что он видел и слышал. Он исходил пешком почти все королевство, ночевал в крестьянских хижинах и лачугах бедняков. Его зоркий взгляд все замечал, его слух улавливал все жалобные ноты. Народ стонал под жестоким ярмом феодального гнета, произвола сеньоров, непосильных поборов и повинностей, беззаконий королевских чиновников, жадности откупщиков, беспощадности судейских крючкотворов. В этом освященном божьей благодатью государстве все низшие подданные его величества, божьей милостью короля, уже знали, что в этом «королевстве кривых зеркал» ни справедливости, ни правды не добиться.
Секрет успеха Руссо в парижских гостиных 1741 —1743 годов таился прежде всего в непохожести молодого музыканта на остальных завсегдатаев этих салонов. Хорошо это было или плохо? Нравилось это или не нравилось? Судите сами. Мнения, наверное, не совпадали. И все же при всем различии во мнениях в этом немногословном молодом человеке скорее почувствовали, чем осознали, что-то новое и, может быть, даже значительное.
Но было еще и иное.
Мы порою забываем о языке первой половины XVIII столетия. Каким искусственно приподнятым, преувеличенно галантным, вычурным языком принято было тогда говорить. Конечно, после «Смешных жеманниц» Мольера так называемый прециозныи стиль с его излишествами галантности, с его цветистыми мадригалами, сонетами и рондо уже уходил в прошлое. Но пришедшая ему на смену та же, еще более измельченная, бездумная изящная игривость, которую позже стали обозначать не очень ясным термином «рококо», в сущности не столь уж многим от него отличалась. И это не был только стиль будуарных сплетен придворного окружения короля Людовика XV. В ту пору деньги уже проложили путь в замкнутый мир привилегированных сословий незнатным выходцам из рядов третьего сословия. Но «мещанин во дворянстве», буржуа, открывающие с помощью толстого кошелька доступ в благородное сословие, спешили усвоить манеры, повадки, стиль и прежде всего речь — это было легче всего — аристократической знати. Все стремились подражать законодательницам мод Сен-Жерменского предместья. «Игра фортуны и любви», как принято было говорить в том столетии, занимала все умы или по крайней мере изображалась чем-то самым важным. Все старались говорить этим манерным языком преувеличенных чувств. Перечитайте письма даже самого остроумного, самого насмешливого автора XVIII века — Вольтера. «Посылаю вам, дорогой ангел-хранитель, свой мемуар…», «очаровательный мой ангел-хранитель…» — такие сочетания ласкательных слов в превосходной степени употребляет Вольтер в переписке с Д'Аржанталем, Пон дю Вейлем и другими. А его корреспонденты? Они еще больше усердствуют: «О вы, Плутус Иппокрена, любезный прелестный Делон, вы, чей зал всегда заполнен гостями избраннейшего общества…» — таков льстиво-высокопарный цветистый слог обращений к прославленному писателю.
Это язык столетия.
Руссо нарушал это салонное щебетание, этот «птичий язык», как позднее, по другому поводу, скажет Герцен, своей простой и точной речью. Он отнюдь не думал, оказавшись впервые в модных салонах Парижа, о литературной стороне своих реплик, своих ответов на вопросы. Он просто старался точно передать свою мысль; ничего более.
Он владел в совершенстве этой, казалось бы, простой и в то же время доступной отнюдь не многим способностью выражать свои мысли, чувства, желания точными, адекватными, как мы бы сказали сейчас, словами. То был, если угодно, особый дар. У Руссо он, видимо, развился, подстегиваемый условиями скитальческой жизни; он был порождением жизненной необходимости. В силу тех же причин его речь приобрела еще одну особенность: она была проста, свободна от всяких вычурностей; то была речь, обращенная к простым людям.
Жан-Жак, как уже говорилось, был одним из самых начитанных людей своего времени. Но, обогатив свою речь всем прочитанным, всем услышанным, он сумел сохранить то, что составляло ее неотразимую силу: простоту и выразительность слов, полное соответствие строения фразы мысли, которую он хотел высказать.
В сущности, на протяжении всей долгой жизни Руссо слово оставалось единственным его оружием. В бездомной юности слово открывало ему запертые на засов двери крестьянской хижины, позже то же слово должно было открыть ему сердца человечества.
Этот удивительный дар владения словом даже в литературном наследии Руссо проступает очень рано. Дю-фур в свое время составил и издал в двадцати томах замечательное по точности и тщательности подготовки собрание писем Руссо и некоторых его корреспондентов.
Перечитайте ранние письма Руссо. Как просто, легко, естественно выражает он свои мысли.
Даже его юношеские письма примечательны ясностью и определенностью мнений, желаний. Возможно, сочтут необоснованным, искусственным утверждение, что еще в ранних произведениях Руссо, в его юношеской переписке в какой-то мере уже обозначились черты его литературного стиля. Конечно, литературный стиль Руссо развивался, даже менялся с годами. И все-таки даже в самых ранних его сочинениях, в его письмах, в его разговорной речи уже отчетливо проступает присущий только ему одному особый дар афористической речи.
Жан-Жак Руссо стал обитателем французского королевства в трудное время. Монархия шла к упадку, в том нельзя было сомневаться. После бесславного заката века Людовика XIV —,,«короля-солнца» — с каждым новым монархом моральный престиж королевской власти падал все ниже. Но все же сам принцип монархии, институт наследственной королевской власти для большинства французов еще представлялся неоспоримым. В народе — и среди темного, забитого крестьянства, и среди городской бедноты, и в зажиточных кругах буржуазии — и за пределами третьего сословия, в рядах привилегированных — провинциального дворянства, духовенства, — еще жила традиционная наивная вера в доброго, справедливого короля.
Когда Людовик XV в 1715 году официально был провозглашен королем, ему было лишь пять лет. Время регентства Филиппа Орлеанского с его финансовыми скандалами, спекуляциями, авантюрами Джона Лоу, разнузданным распутством двора (самого Филиппа, его дочери герцогини Беррийской и соучастников их оргий), всеобщим растлением нравов, афишируемым прожиганием жизни в кутежах и разврате, способствовало популярности будущего монарха. Все надежды недовольных — а сколько их было! — на лучшее, более справедливое время связывались с будущим царствованием…
В октябре 1723 года Людовик XV был объявлен совершеннолетним, и в Реймсе состоялась торжественная церемония коронации нового монарха. Но королю было всего тринадцать лет, мог ли он в полудетском возрасте удерживать бразды правления? Правительственная власть вновь оказалась в случайных руках. Сначала это был герцог Бурбонский, вернее, его фаворитка маркиза де При, имевшая неограниченное влияние на герцога, а через него и на все звенья государственного механизма. Дочь крупного финансиста, сохранившая тесные связи с миром денежных тузов, она широко распахнула для них двери правительственных апартаментов. Имя герцога Бурбонского прикрывало действительную власть финансовых воротил — Бернара, братьев Пари и других участников сложной и темной игры на меняющемся денежном курсе.
За три года правления герцога Бурбонского маркиза де При и окружавшая ее свора финансовых дельцов и проходимцев сумели довести королевство до состояния острейшего кризиса. Летом 1725 года всеобщее недовольство, усугубленное непрерывным ростом цен на хлеб и другие продукты питания, привело к широким народным выступлениям. В июле — августе толпы мастеровых, бедноты из Сент-Антуанского предместья не раз выходили с угрожающими возгласами на площади столицы. Негодующий народ овладел также улицами Руана, Кана, Ренна. Правительству пришлось срочно провести снижение цен на хлеб; одновременно оно двинуло против мятежников вооруженную конницу. В Сент-Антуанском предместье для устрашения были воздвигнуты виселицы; двух вожаков мятежников повесили.