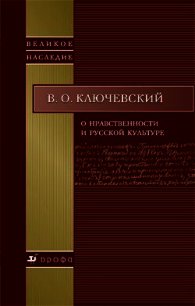Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Итак, противодействие французской теории не свидетельствует об утрате присущей ей ауры: оно началось намного ранее, точнее — с самых первых дней. Существует несколько полюсов сопротивления, занятых возведением плотины против теоризма: для некоторых, как для департамента литературы Бостонского университета, где была создана одна из «анти-MLA» [117] — Ассоциация критиков и литературоведов [ACLS=Association of Critics and Literary Scholars] Роджера Шэттака и Кристофера Хикса, это постоянный труд, другие примкнули к нему после идеологических столкновений 1980-х годов, когда часть умеренного крыла восстала против модного увлечения теорией, как это сделали принстонские издания или знаменитое «Нью-Йоркское книжное обозрение». Но свою весомость тезис об упадке мог обрести лишь благодаря яростным антитеоретическим нападкам 1990-х годов, хотя грубость оскорблений была всего лишь мерилом известности их жертв, платой за успех. Тут следует вновь обратиться к выступлениям критика Камиллы Палья, чей патриотический запал и язвительность завоевали широкую известность за пределами университетских кампусов: ее статья была напечатана в 1991 г. на первой полосе литературного приложения к газете «Нью-Йорк тайме», затем перепечатана в «Сан-Франциско экзаминер» и в ежемесячном журнале «Космополитен»; ее более полная версия вошла в авторский сборник статей, имевший большой издательский успех [118]. Скромное происхождение автора и трудовые подвиги на авиационных заводах Сикорски, где она преподавала рабочим английскую литературу, становятся как бы моральным залогом ее популистских рассуждений. Палья последовательно противопоставляет радостную и невинную витальность американской поп-культуры нытью «тюфяков» и извращенной «злобности» касты теоретиков (французских и американских). По ее словам, она «выбирает» рок вместо Самюэля Беккета и братьев Маркс вместо Поля де Мана, и даже грезит об Арете Франклин, гонящей плетью Лакана и компанию по Елисейским полям, — «нам нет нужды в Деррида, у нас был Джим Хендрикс» [119], — настаивает она, пуская в ход столь несообразное сравнение, что оно-то и выдает, сколь широк размах влияния пресловутой французской теории.
Особенно беспредельной кажется ее ярость по отношению к Фуко: «невежа», «жеманный болтун», и притом «фригидный теоретик, страдающий запором», «левак в инвалидном кресле» и даже «наглый выродок» [120]. Текст Палья — настоящий экстаз франкофобии. «Децентрированный субъект» оказывается одним из «самых внушительных кусков заплесневелого сыра», которые приходилось проглатывать американцам, и, помимо всего прочего, идея «децентрации» возникла во Франции после того, как та «побывала под немецким сапогом»; все это — вместе с клише по поводу французской «холодной иронии» и «деланной напыщенности», за которыми скрывается «интеллектуальная пустота», — ведет к собственно революционной концовке, к призыву избавиться от французских «идеологов», как в 1776 году от британских колонистов: «Выбросим французов за борт в Бостонском порту [где началась американская революция], и пусть они возвращаются к себе вплавь» [121]. В каком-то смысле это защита американской культурной исключительности. Благодаря вольности тона и тому, что она, по мнению ее союзников, открыла глаза соотечественникам, «с идиотской доверчивостью принимавших за истину лукавые насмешки фланёров» [122], Палья стала звездой и даже, если верить таблоиду «Ньюсдей», «интеллектуальной топ-моделью 1990-х годов» [123]. Ее можно видеть на обложках журналов «Нью-Йорк», «Харперз», «Вилидж войс», в ежегодном списке журнала «Роллинг стоун», ее имя мелькает на страницах международной прессы, от «Шпигеля» до «Коррьере делла сера», от Москвы до Барселоны. Но, как и нападки неоконсерваторов предшествующего десятилетия (включая те, что были вызваны делом Поля де Мана), провокация Палья способствовала тому, что в общественном сознании степень влияния французской теории на американскую молодежь оказалась сильно завышенной. Настолько, что, наравне с фри-джазом и приключенческими фильмами, она предстала как особый жанр современной культуры, или как интеллектуальный червь в сочном плоде американского культуросозидания. Сходный эффект имели и другие, последовавшие за скандалом вокруг Палья споры, получившие не столь громкую огласку.
Так, год спустя была опубликована биография Мишеля Фуко, написанная критиком Джеймсом Миллером, где проводилась параллель между его теориями власти и его якобы существовавшим «увлечением» садомазохистскими ритуалами в задних комнатах баров Сан-Франциско, которые он действительно активно посещал в конце 1970-х годов: таким упрощенно-биографическим и сомнительно-психоаналитическим манером Миллер помещает как творчество, так и жизнь Фуко под знак «влечения к смерти» — смерти автора и настоящей смерти: за это ухватились некоторые журналы, пытающиеся тем ограничить весь творческий путь Фуко [124]. В лучше документированных, но не менее идеологически сомнительных опусах политолога Тони Джадта безответственность и «тоталитарные» заблуждения французских интеллектуалов-авангардистов осмеиваются во имя реабилитации сторонников демократических реформ или французского интеллектуального «центризма» от Камю до Мендес-Франса [125]. В других дисциплинах сдержанности еще меньше: так, критик-искусствовед Роберт Хьюз прибегает к водной метафорике — сперва это цунами, затем смрадное болото, — сожалея, что на университетских кампусах теперь не сделаешь карьеры, «не внеся лепту в это озеро жаргона, чьи воды (разливаемые в бутылки для экспорта в США) струятся между Нантерром и Сорбонной и на чьи грязные берега каждый вечер стекаются на водопой блеющие стада постструктуралистов» [126]; с большим лаконизмом тройка историков, решивших уберечь свою дисциплину от французского «релятивизма», говорит о нем как о «сущей мерзости» [127]. Этот град оскорблений и насмешек трудно оценить по справедливости, если не вспомнить, что запальчивые призывы к культурной независимости являются оборотной стороной восхищения французскими мыслителями — тем, что Вальтер Беньямин называл «фетишизмом имени Учителя».
Действительно, усиление такого рода критики не дискредитирует теоретическое направление, но вызывает процесс обратной реакции: атака способствует его укреплению. Демонизация французской теории как категории одновременно является и признанием существования такой группы авторов и идей; их постулаты становятся привычными, и в итоге отрицание узаконивает то, что самые истовые проводники французской теории с немалым трудом пытались выдать за единое и однородное целое. Так эта область специализированного и в целом труднодоступного знания внезапно оказалась в центре внимания американского общества. Не говоря уж о том, что порой критики, отдавая предпочтение творчеству того или иного теоретика (но, на сей раз, в ущерб категории в целом), по ходу бесконечных полемик разыгрывают одного автора против другого, скажем осуждают теоретические игры Бодрийяра, чтобы надежней защитить важность трудов Делёза и Гваттари, или клеймят политическую двусмысленность деконструкционизма, чтобы оправдать Лиотара за его способность поднимать вопрос о «политической значимости» «критической мысли» [128]. К общему количественному эффекту обратной реакции — предмет критики получает место в пространстве дебатов и приобретает притягательные атрибуты парии — добавляется селективность, побуждающая участников более четко обозначать свои позиции и уточнять различия между разными французскими авторами. Кроме того, уже то, что эти идеологические или профессиональные дебаты вращаются вокруг теоретического наследия, подтверждает его роль организующего принципа американского интеллектуального пространства, согласно описанной Бурдье логике трансляции «вкусовых систем»: «Навязать рынку нового производителя, новый продукт, новую систему вкусов — значит отодвинуть в прошлое всю совокупность производителей, продуктов и вкусовых систем, иерархизированных по степени легитимности» [129]. Получается крепкая, устойчивая трансляция, выходящая за рамки мимолетной моды, — иначе говоря, в общественном американском пространстве есть периоды до и после теории. На протяжении нескольких лет ей удалось не только заново околдовать мир от университетских кампусов до художественных галерей, но и, в более долговременной перспективе, в чем-то изменить американский подход к знанию.