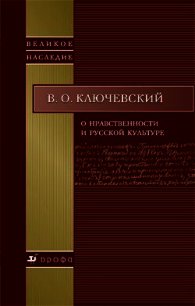Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Все это заставляет думать, что упадок французской теории — на самом деле продолжающийся уже полвека неумолимый упадок французского культурного влияния по ту сторону Атлантики: на его основании обычно и делается вывод об упадке теории, в то время как ее местные, американские элементы не вызывают сомнений. Этот упадок бесспорен, вне зависимости от приступов франкофобии воинствующей прессы: преподавание французского в университетах уменьшается в пользу испанского и китайского, сокращается число переводов с французского (что согласуется с кризисом университетских издательств), и в результате снижения мирового значения Франции после 1945 года в американской массовой периодике уменьшается число публикаций о французской культуре: по вполне официальным данным «Читательского путеводителя по периодической литературе» («Reader’s Guide to Periodical Literature») в 1994–1998 годах количество статей о Франции было в 7 раз меньшим, нежели в 1920–1924 годах [130]. Из этого общего контекста упадка несколько поспешно выводится мысль об упадке, постигшем некоторые тексты, причем именно те, что за последние тридцать лет оказались абсорбированы американской университетской системой, и несмотря на то, что их продвижение никогда не было целью французской культурной политики. Можно пойди далее и вместе с Деррида предположить, что французская критика гуманизма и семантизма с самого момента ее появления в Америке неизменно рассматривалась как упадок мысли и мысль об упадке, который иные даже считали полным падением: «… с начала 1970-х гг. уже посыпались предсказания о […] падении, декадансе, упадке, провале, скольжении в пропасть», — но, как иронически замечает Деррида, «[как правило,] падение происходит единожды и на том заканчивается; здесь же речь идет о конце […] французской теории, которая продолжается, повторяется, настаивает, множится, […] об отложенной неизбежности, […], желании падения» [131]. В этом смысле, для некоторых упадок — не столько рок, сколько зеркальное отражение лейтмотива французской теории и ее неоправдавшихся амбиций.
1990-е годы, невзирая на мощные атаки на французскую теорию, стали периодом ее институциализации. Отказавшись от своих притязаний и даже вызвав критику некоторых активистов меньшинств, она уже в меньшей степени, нежели в предшествующее десятилетие, ассоциировалась с идентификационным радикализмом. Пресса поливала ее грязью, однако на кампусах она во многом лишилась былого драматизма, а имена Фуко, Деррида и Делё-за с немыслимым ранее спокойствием ждали своих читателей в программах университетских курсов. Споры постепенно затихают, на смену им пришло проводимое рядом критиков более академическое и менее зрелищно-воинственное подведение итогов. Изменение тона комментариев заметно по вышедшей в 2001 году хрестоматии работ Деррида (Derrida Reader), посвященной влиянию этого философа на гуманитарные науки: в его оглавлении всячески склоняется дидактическая анафора «Деррида и…», к которой добавляется название соответствующей дисциплины (литература, эстетика, этика, право и т. д.); автор предисловия под прикрытием своего амбициозного замысла (выяснить будущее гуманитарных наук) предлагает еще более университетскую и засоренную жаргоном выжимку из Деррида, нежели все его предшественники; деконструкционизм здесь с видом оскорбленного достоинства обороняется от обвинений в нигилизме, однако, в отличие от минувших дней, не честит своих гонителей «империалистами» [132]. Точно также вышедший в прокат в 2002 году документальный фильм Эми Циринг-Кофман и Кирби Дика «Деррида» был принят прессой без ранее неизбежных эксцессов. Конечно, не обошлось без штампов по поводу скандальной известности героя («Деррида — Мадонна мысли»), но сам фильм был прочтен почти в дерридианском духе, было высказано сожаление, что камера не запечатлела ни «игры», ни «иронии Деррида по отношению к самому себе» [133]. Его случай — не исключение; как бы ни именовались теперь курсы по теории — «после теории» или «посттеория», — они обращаются к одному и тому же списку авторов и имеют близкую тематику, разве только с чуть большей ориентацией на литературные тексты; однако это один и тот же, теперь уже классический круговорот имен и направлений, где вокруг французской оси вращаются одинокие спутники, необходимые для общей перспективы, от Вальтера Беньямина до Людвига Витгенштейна или Петера Слотердайка [134].
До сих пор при объяснении успеха французской теории в нашем обзоре сознательно занижалась роль культурных представлений; вместе со многими американскими участниками этого феномена мы исходим из того, что если в Соединенных Штатах и имеется французская теория, то она в большей степени проистекает из интереса к теории, нежели из интереса к Франции. Однако теперь стоит в этом разобраться. Парадигма дискретности, столь дорогая экспертам трансантлантической оси, которые расширяют мелкие культурные различия до исторических провалов и ценностных разломов, в первую очередь — журналистский миф, или, по крайней мере, привнесенное этнографами искажение: вполне логично, что и тех и других более интересуют служащие оправданием их деятельности контрасты, нежели менее увлекательные сходства — которые, помимо прочего, означают единство греховного «первого мира», этого «севера» по обеим сторонам Атлантики. Но вне зависимости от ее реальности или иллюзорности идея дискретности безусловно завладела умами, что играет ключевую роль. В первую очередь эта дискретность касается самого концепта «реальности»: так, французской критике истории было суждено завоевать сторонников в стране, где популярна точка зрения, что «история — чушь» (по выражению Генри Форда: «History is bunk»); в этом эдеме социальной мобильности и ничем не ограниченной свободы капитала шизотеория Делёза и Гваттари не могла не прижиться и начать чувствовать себя как дома — и прочие бесконечные вариации на тему франко-американской диалектической взаимодополнительности, дополнительности дискурса и практики, витализма и его генеалогии, европейских слов и американских вещей. Эта схема, безусловно, не является изобретением журналистского дискурса: появлению в Штатах французской теории предшествовало два столетия — и даже более, если учитывать свидетельства первых евангелических проповедников — перекрещивающихся культурных нарративов, в которых всячески склонялась идея о диалектическом взаимовключении Старого и Нового Света, тот распространенный образ Америки, согласно которому она в некотором смысле составляет референт французского концепта, всегда-уже-реализованную европейскую мысль [135].
Этому способствовал даже Токвиль, подчеркивавший, к примеру, «спонтанное» картезианство американцев: «Америка — одна из тех стран, где менее всего изучают и более всего выполняют предписания Декарта», американцы «не имели нужды черпать в книгах» максимы «Рассуждения о методе», «поскольку они [их] находили в себе самих» [136]. Веком позже изгнанник Андре Бретон полагал, что его наблюдения о сюрреализме больших городов «имеют больше отношения к Нью-Йорку, нежели к Парижу» [137]. А Сартр описывал Америку как воплощение диалектики: на улицах Нью-Йорка ему, словно озарение свыше, явилось примирение гегелевского Духа с материей, «это конкретное, повседневное присутствие Разума во плоти, зримого Разума» [138]. Как совершенно справедливо отмечает Филипп Соллерс, для Поля Морана, как и для всех французских писателей перед лицом американской гигантомании, писать о Соединенных Штатах означает словно «[вступать] в голливудскую суперпродукцию», быть внутри письма «на уровне нынешней аудиовизуальной культуры» [139]. Этот список можно продолжить и именами авторов, чьи работы входят в основной корпус теоретических текстов. Порой они принимают эстафету письма, отвечающего (сверх)меркам этой страны, как Бодрийяр в «Америке» или Лиотар в своем романе «Тихоокеанская стена»; или же к ним обращаются как к сейсмографам американских тектонических процессов, ища в них успокоение от великой американской тревоги. Можно подумать, что их рассуждения о «симулякрах» или «рассеянии» облекают в слова тайну современной Америки, которая ускользнула от ее дежурных наблюдателей — так, словно бы Америка и французская теория были похожи друг на друга. К примеру, Фуко находит там те самые «новые образы жизни» и «самопостроения», которые он исследует в своих трудах на античном материале [140]. А у Кристевой, читающей курс по теории студентам и молодым художникам, складывается впечатление, что она «беседует с людьми […], [для которых] все это согласуется с пережитым, с опытом — визуальным, действенным или сексуальным» [141]. Наконец, Бодрийяр постоянно приходит к выводу, что обсуждаемые им парадоксы уже сформулированы самим фактом существования Диснейленда, пересекающего Неваду шоссе или фильма «Апокалипсис сегодня»: футуристическая Америка оказывается оригиналом всего того, чьей копией стала обращенная в прошлое Европа. Американская шизофрения / европейская паранойя, витализм / идеализм, дискурс / интенсивность. Без сомнения, эти биномы — не более чем продолжение затасканного, но часто пережевываемого представления, что Америка создает зрелище, а Европа — мысль; тем не менее они достаточно оттеняют специфику предмета французской теории. Ибо американские читатели постоянно подчеркивают ее радикальную чуждость их образу мысли, что в то же время является единственной формой радикализма, способной уловить в свои сети чисто американское безумие.