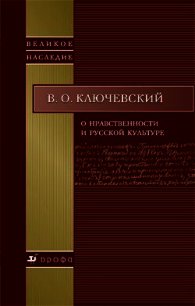Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Итак, она дополняет в силу отличия, просвещает в силу радикальной чуждости и, более тривиально, тем выше ценится, что импортируется. Лучше всего давнюю франко-американскую дискретность и ее роль в успехе французской теории иллюстрирует (от противного) недавний провал, который постиг по ту сторону Атлантики французскую мысль, более близкую к американской политико-философской традиции — вторичную, а потому оставшуюся незамеченной, знакомую, а потому ненужную. В 1994 году профессор Томас Павел и его коллега-политолог Марк Лилла (оба связаны с Фондом Сен-Симона и с французскими аронианцами) инициировали проект «Новая французская мысль» (NFT — New French Thought), обладавший четкой идеологической мотивацией: принести в США, в пику захватившим монополию французским «ницшеанцам» и «хайдеггерианцам», «демократических мыслителей», токвильянцев и неокантианцев, от Пьера Манана до Жиля Липовецки, Алена Рено и Бландин Крижель, а также Жака Бувересса и Марселя Гоше. Во время одноименного коллоквиума была презентирована серия «Новая французская мысль» издательства Принстонского университета, финансируемая отделом культуры французского посольства (также решившим найти преемников Фуко и Деррида), в которой за несколько месяцев вышли английские переводы всех основных трудов французских либералов 1980-х годов. Однако, как вскоре стало очевидно, наперекор надеждам основателей NFT не сделалась новой модной аббревиатурой и не смогла низложить царящих на университетских кампусах наставников «мысли шестьдесят восьмого года»: ее удел — посредственные показатели продаж, редкие отклики в прессе и настороженный прием со стороны университетской аудитории. «Какое отличие в тоне, амбициях и притязаниях!» [142] — замечает Эдвард Саид, меж тем как журналист левого толка Ричард Волин, которого трудно заподозрить в благосклонности к французской теории, считает, что на смену антидемократическому «французскому авангарду» в США стремится прийти «новое поколение неолиберальных мыслителей с респектабельными политическими взглядами, но заурядных с интеллектуальной точки зрения» [143]. Если вынести за скобки идеологические дебаты, то здесь отчетливо просматривается влияние культуралистских доводов: американскому интеллектуальному пространству нужнее критическая мысль (пришедшая из Германии), которая ему чужда, или интенсивная мысль (пришедшая из Франции), которой у него не было, нежели легалистские рассуждения, которые более века лучше всех оттачивали столпы американской либеральной культуры от Уильяма Джеймса до Джона Ролза. Так же и Гаятри Спивак и Майкл Райан, говоря о появлении во Франции «новых философов» — которых они, странным образом, увязывают с унаследованным от французской теории «анархизмом», — уже отметили их вторичность по отношению к «американскому консерватизму типа „меньше правительства“» и «либеральной позиции» «перманентного бунта без революции» [144]. Иными словами, отличие играет роль не только политической темы: в вопросах теории это эквивалент въездной визы в США.
Итак, своей способностью вызывать изменение французская теория обязана не только своему эстетическому и политическому радикализму, но также своей несомненной французскости — центральной частью которой, да простят мне охотники за клише, с американской точки зрения являются соблазн и ирония. «Это так по-французски» («It’s so French»): любимый мотив американской франкофилии, нулевая степень культурологической выразительности — которая, однако, принимает этот вид именно при характеристике французов (выражения «это так по-немецки» и даже «так по-итальянски» встречаются гораздо реже). Количественное наречие обозначает здесь некий изначальный избыток, коварное преувеличение, в том смысле что избыток французскости означает надменную вежливость, использование образованной болтовни или изысканного письма с целью сбить с верного пути и ввести в заблуждение слушателей, что согласуется с первоначальным значением латинского глагола «seducere». Это хрупкое равновесие, столь удивительное для американского наблюдателя, между классической формой (как, скажем, у Фуко) и экстремизмом содержания, между человеческой открытостью (за что часто хвалят Деррида) и авторской труднодоступностью в какой-то мере способствует формированию комбинированной идеи французского соблазна, за счет которого следует отнести немалую долю американского успеха этих авторов. Как признает с должным недоверием к любого рода соблазнам феминистка Джейн Гэллоп, здесь имеет место «специфическое скрещение Соблазна и Теории»: «Многие из нас в последние годы позволили себя увлечь этой смесью опасности и очарования, которую я, за неимением лучшего, буду именовать французской теорией» [145]. Все, вплоть до сильного акцента Деррида или Бодрийяра, звучащего в их английской речи, — все становится частью соблазна, поскольку, как отмечал Ирвинг Гофман, «то, что в тексте является шумом», может обернуться «музыкой при живом общении» [146]. Иными словами, связанные с французской «соблазнительностью» и «болтовней» культурные архетипы во многом предваряют, включают в себя и до какой-то степени формируют предмет теории. Вот почему на протяжении уже 30 лет американские университеты, руководствуясь весьма ограниченным корпусом из дюжины авторов, интересуются тем, что для них более или менее ассоциируется с французской теорией, с ее ироническим шармом, — вплоть до того, что ее производными продуктами видятся и кинематограф Новой волны и Новый роман, который на кампусах нередко изучают так, словно Роб-Грийе занимался иллюстрированием Деррида, а Жорж Перек был продолжателем Делёза: авангардистская Франция пересматривается в свете «теории». Полифоничная, небрежно-критичная, невнятная, соблазнительная, изворотливая: судя по этим определениям, французская теория является настоящей культурной нормой.
Напоследок еще раз нарушим целостность корпуса, чтобы подвести приблизительный итог американского эффекта каждого значительного автора и обозначить ту особую нормативность, которую каждый из них стал воплощать. Однако в нескольких строках невозможно представить полноценный портрет американских метаморфоз Фуко, Деррида или Лиотара — как, к сожалению, невозможно коснуться всех французских авторов, которые в Америке ассоциируются с теоретическим направлением: скажем Рене Жирара, который уже на протяжении 40 лет живет в США, или его нынешнего коллеги по Стэнфорду Мишеля Серра, и многих других, от Жака Рансьера до Алена Бадью, от Поля Вирилио до Жан-Пьера Дюпюи, который также преподает в Калифорнии. Поэтому ограничимся семью авторами, чьи труды образуют каркас французской теории, обеспечивая ее основными концептуальными осями и теоретическим стилем. В каждом из этих случаев наша цель — не столько дать всеохватывающий синтез, сколько взвесить уже упоминавшиеся противоречия, связанные с их импортом и американским переосмыслением, а также напомнить о постепенно возникающем напряжении между общей логикой творчества того или иного автора (включая его исходный французский контекст) и его использованием (или его уже американскими нуждами) — напряжении, которое всегда имеет нестабильное разрешение и именуется искажением или детерриториализацией: именно оно способствует укреплению положения и институциализации этих американских аватар.
Можно высказать гипотезу, что перенос в Америку каждого из этих авторов стал причиной возникновения прагматического парадокса или «двойного требования» («double bind»), в том смысле, который в докладе 1956 года «К вопросу о теории шизофрении» придали этому термину Грегори Бейтсон и его коллеги: имеется в виду противоречие между двумя аспектами высказывания, чаще всего между его регистром и смысловым наполнением (как в приказе «будь непосредственным!»), которое делает его практически «неразрешимым» и препятствует «получателю выйти за установленные высказыванием рамки» [147]. Когда сообщение «содержит некое утверждение» и при этом «утверждает нечто по поводу собственного утверждения», причем утверждения оказываются взаимоисключающими, тогда возникает прагматический парадокс, чье разрешение может быть только прагматическим: следует либо не принимать в расчет один из этих двух аспектов, либо поменять местами уровни сообщения (скажем, так, чтобы «комментарий стал текстом, и наоборот», как предлагает Ив Венкен [148]), или осуществить восстановление «метакоммуникации», что снимет блокировку, — возможно, именно этим объясняется разрастание в США комментариев к французским авторам и соответствующих метадискурсов. Противоречие в данном случае имеет, конечно, скрытый характер. Оно обусловлено тем, что логика французского теоретического текста исключает некоторые возможности его применения, заранее отметает ряд прочтений, которые зачастую оказываются необходимы их американским толкователям для запуска текста. Можно расценивать это как хорошо известную диалектику предательства и реапроприации. Грубо говоря, в тексте Фуко действительно утверждается существование некой «заботы о себе», а в тексте Бодрийяра — существование некой «симуляции», однако их регистр и общая логика не позволяют видеть в них учение о жизни или «симуляционную школу», — по крайней мере, если не идти наперекор прямому смыслу этих текстов. В этом отношении часть американского «изобретения» состоит в умении заставлять французских авторов говорить так, как их понимают, или, по крайней мере, изрекать то, что хотят из них извлечь. Иначе говоря, происходит примирение текста с миром, уменьшение неизбежного разрыва между автаркической логикой произведения и требованием пользы, ради чего и были созданы, методом проб и ошибок, совершенно неизвестные Франции Деррида, Делёз или Лиотар.