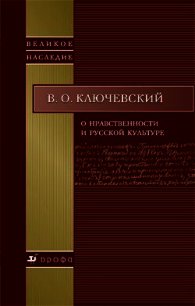Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Сэнд Коэн
Историография и восприятие французской теории в Америке
Когда отдельные индивидуумы или группы проецируют свои действия на «историю», подчиняя их общим закономерностям — таким, как соотнесение «происхождения» и «цели» в рамках концепции прогресса (или упадка), — то историзация принимает на себя роль самозащиты/агрессии и, в реальности, имеет отношение к будущему. Как заметил в «Печальных тропиках» Леви-Стросс, когда члены какого-либо сообщества действуют «во имя истории», насильственно насаждая традицию, которая институциализируется и делается тормозом актуальной культурной продукции, то с культурной и политической точки зрения это имеет вполне деструктивный характер. Институциализация модернизма — один из образцов такого рода историзации: эксперимент, ставший каноном. Историческое знание узаконивает не талант, а репрезентацию и добавляет «лоск капитала» самым неоднозначным, но устоявшимся рутинным практикам. Таким образом, настоящее оказывается сверхдетерминировано напластованиями уже произошедшего, но в реальности еще не отошедшего и не до конца оговоренного.
Французская теория взяла на вооружение выделенные Ницше функции истории, но это происходило не в вакууме. Ее авторы совмещали критику историцизма с интеллектуальной критикой научного сообщества за «политическую корректность», за неустанное изгнание несогласных и приверженность модели господин/раб, за постоянные агрессии во имя престижа. В силу почтенного возраста историографии, ее заметной монументализации и институциализации усилиями ученых-историков, французская теория привнесла в критическую теорию истории проблемы институционального анализа и интеллектуальной достоверности. Перекликаясь в этом с некоторыми немецкими мыслителями — на ум приходят Ханна Арендт, Карл Ловит, Рейнхарт Козеллек и Карл-Хайнц Борер, — французская теория усомнилась в историчности самой науки. Она поставила под сомнение те версии истории науки, которые делают ученого героем просвещения. Она подвергла критике свойственную научному миру систему апроприаций и включений, идеализации и раздражения по поводу «чрезмерности» теории. В каком-то отношении французская теория опробовала на историках их собственные концепции прогресса/регресса («у этого есть будущее, у того — нет») и поставила вопрос о том, каково будущее общества, вытекающее из столь внушительного «исторического знания».
Итак, французская теория поставила под сомнение академическую фигуру знатока-любителя и усомнилась в том, что отрицание, как настойчиво убеждают историки, можно представить в качестве эстетического единства — грандиозного труда, «последнего слова» историка, окончательной суммы знаний. Взяв под вопрос исторические теории, рассматривавшие капитализм как «необходимость», вместо того чтобы заниматься механизмом существования и становления капитала, французская теория дала толчок сопротивлению(ям) капитализму; в ее фокусе — способности капитала к интеграции отличий. Поскольку если язык, история и капитализм связаны друг с другом так, что их невозможно свести к субъективности, главенству и репрезентации, то получается, что французская теория ставит под сомнение современные гуманитарные — либеральные, консервативные и марксистские — разновидности «исторического» знания и «назначения истории». В этом смысле, раз капитализм «надисторичен» и не имеет соперников, «историческое сознание» более не способно регистрировать новые повороты реальности; историки, сами того не зная, остались не у дел.
Что касается историографии, то тут Ницше было важно разобраться, действительно ли задаваемые прошлому вопросы ставят под вопрос самого вопрошателя — открывают настоящее скептицизму по поводу нашего употребления и злоупотребления прошлым. В какой мере искреннее вопрошание прошлого — «примирение с прошлым» — самообман или, того хуже, инструмент политического воздействия? Последнему сегодня есть множество примеров. Один историк утверждает, что «модернистский» отказ от «поклонения предкам» превратил настоящее в пустыню, ибо без него скудеет «запас смысла…». Отпадение модернизма от мудрости минувших достижений, его «отход» от прошлого, «разрыв» с ним, пронизывает настоящее, окрашивая его в меланхолические тона, истощает смысл [174]. «Историчен» ли вопрос, предполагающий, что настоящее лишено того, чем (предположительно) обладало прошлое? С точки зрения Ницше, история прежде всего связана с тем, что мы делаем с языком и с существующими социальными отношениями путем «употребления и злоупотребления» историей. Ницше поинтересовался бы, как историк состряпал эту интеллектуальную схему, где настоящее читается как продолжение процесса расколдовывания мира: о чем идет речь — о прошлом или о связи прошлого с настоящим? Как может то, чем мы обладали, быть утрачено и при этом влиять на социальную систему, у которой мало общего с прошлым? И какую разновидность «поклонения предкам», бывшего залогом осмысленности этого прошлого, имеет в виду историк?
Если всерьез обратиться к истории-как-репрезентации, как к проявляющейся на разных языковых уровнях картине мира — наименования вещей, их классификации на существенные и случайные, подставления под эти ярлыки одних историй и расщепления других в вечной борьбе за «истинную картину», и так далее, — тогда интерес к истории-как-репрезентации неизбежен. Письмо истории прежде всего говорит о борьбе современников за использование репрезентаций в нынешних дебатах. Стандартный конфликт разыгрывается вокруг использования концептов, способствующих соединению повествования такими скрепами, как класс, власть, желание, и т. д. Два хорошо известных примера — дарвиновская идея естественного отбора и гегелевская концепция абсолютного знания: обе соотносят время с ощущением происхождения и результата, с генетическими моделями, где противоречия увязываются вместе при помощи темпоральной структуры. Историография прибегает к художественным приемам, чтобы мы находили естественный отбор или абсолютное знание, классовый конфликт или расовые дилеммы на всем протяжении «истории», именно потому, что эти концепты присутствуют в языке. Это — лингвистические антропоморфизмы, идеализированные и интегрированные в «бессознательное интеллектуалов» — и не только их.
Согласно французской теории, в плане исторической репрезентации не может быть никакого окончательного «вот как было». В этом смысле она соглашается с собственным признанием историка в неполноте любого повествования и стремится показать, что всякий нарратив способен лишь симулировать свою дистанцированность от языка, лишь говорить о своей дистанцированности от вещей, артикулируя слова, их воплощающие. Трудно пойти дальше апории Жерара Женетта, который в связи с проблемой описания утверждал, что даже простейший нарративный акт — к примеру, фраза «Был прекрасный день» — порождает нарративную проблему «рассказчика» и авторских функций; однако это сделали Делёз и Гваттари, когда в «Анти-Эдипе» подчеркивали, что письмо не может представлять историческое, пока это активный процесс письма [175]. В силу того что язык на своих «верхних» уровнях не меньше всего остального близок к слухам, сплетням, насмешкам, злословию, истерии и безумию, французская теория — в своей ницшеанской ипостаси — опротестовывала историческую репрезентацию, исследуя как неизменную склонность языка к выстраиванию иерархий, поглощению, выпрямлению и субъективации, или те психолингвистические «элементы», из которых состоит «заурядное историческое сознание». В свете такого истолкования Ницше, сочетавшегося с некоторыми предположениями по поводу структур и функций языка, историзация оказывалась полностью деавтономизирована, поскольку невозможно обнаружить никакого своеобычного способа существования языка или субъективности, при котором бы к нам возвращалось прошлое, а настоящее было его восприемником.