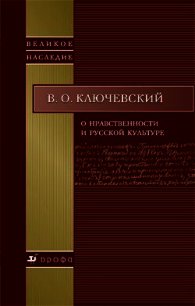Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре - Зенкин Сергей (полная версия книги TXT) 📗
Причем убедили себя в этом так глубоко, что сами себя призвали к суду, к которому призывали их все те, кто хотел только одного: поставить крест на всякого рода ангажированности интеллектуалов, а также на всякого рода коммунизме, троцкизме, сюрреализме, анархизме, антиколониализме и т. п. И кто и в самом деле поставил крест на интеллектуальности, поставив крест на интеллектуалах.
И этому судилищу они предавались практически на любой лад, не гнушаясь ничем из того, что диктовалось им криводушием.
И прежде всего на такой: требовалось, чтобы всякая мысль, а fortiori мысль политическая, перестала желать того, чтобы мир стал другим, чтобы другим стало устройство (денег, полиции, происхождения, религии, границ, семьи…).
Требовалось, чтобы был поставлен крест на интеллектуальности, которая без зазрения совести выставляла себя независимой, экстравагантной, трансгрессивной, бунтарской, радостной, непокорной, маргинальной, находчивой и т. п. На самом деле требовалось, чтобы был поставлен крест на этой неправоте, которой отличалась человеческая мысль, претендуя на то, чтобы среди прочего быть также и интеллектуальной — то есть политической (успех социологизма иначе и не объяснить: это успех реальной деполитизации мысли).
Само собой разумеется, что эта нечистая совесть была напускной. Она не внушала, что всякая мысль, претендующая на интеллектуальность, является мыслью неправой. Как не внушала и того, что всякая интеллектуальность греховна. Внушалось следующее: что правота только за теми мыслителями, которые без особого труда приспособляются к этому миру (вот ведь до чего дошло: Арон возводится в ранг политической элегантности); а неправота за теми, кто его клеймит. И ни за что не перестал бы клеймить, пусть даже мир этот не оправдал бы их непомерных надежд (почему не противопоставить здесь Арону, например, Делёза, чья мысль вызывает столь повсеместное, хотя и негласное, презрение?).
Во всяком случае, была навязана одна модель, поднявшая в цене саму модель: модель тех, кто приспосабливался к этому миру после того, как вдосталь его наклеймился, — модель покаявшихся («покаяние», которому сегодня предаются все как один исключительно по доброй воле, от которой мутится в глазах, начиналось не с Церкви, а с клириков).
Что подводит к такому утверждению: одомашнили мысль вовсе не медиа, а сами интеллектуалы (одомашнивание мысли: ее приспособление к господству). Именно сами интеллектуалы захотели, чтобы мысль приспособилась к сегодняшнему господству (а если представится такой случай, то и порукоплескала ему), дабы не осталось ни единого следа от преступлений предшествовавшей мысли, не желавшей приспособиться к господству вчерашнему.
И именно в медиа эти «домашние» (так ведь называют четвероногих друзей?) интеллектуалы объявили о своем перерождении.
А где еще, коль скоро медиа уже давно были одомашнены господством? Коль скоро оно, как ни крути, их содержит. Причем не извне (покупая или прибегая к полиции). То есть так, что подразумевается, будто медиа продажны в отношении власти и что они таковы из страха перед властью или из собственной выгоды. Дело в том, что нет больше никакой власти, по крайней мере власти политической, по отношению к которой медиа были бы в состоянии заявить о своей продажности. Нет больше такой власти, ибо нет такой власти, которую не держали бы в своих руках медиа.
И в самом деле: в своих руках они держат вовсе не ту власть, что им якобы переуступила власть политическая: они представляют собой ту власть, какой не обладает больше никакая власть (в том числе и политическая). Точнее говоря, они представляют собой власть, в силу которой больше нет такой политической власти, которой не вменялось бы в обязанность делиться властью с теми, кто ее оспаривает: судейскими; крупными экономическими и финансовыми группами; медиа-концернами. И которые вскоре приберут себе всю власть (если уже не прибрали). Так что сегодня господство — это уже не то, против чего случалось протестовать мысли, в том числе и в медиа («вчерашний день», сказал бы Беккет), это сами медиа, равно как и все то, что поддерживает господство и принимает в нем участие.
Что дает право на второе утверждение: интеллектуалы, которые с завидной регулярностью сотрудничают с медиа, входят в состав всего того, что удерживает и разделяет власти. Это интеллектуалы от власти, как некогда были интеллектуалы от партий, партийные интеллектуалы. То есть интеллектуалы гетерономные.
И напрасно они стараются, чтобы люди поверили, будто тем самым они расквитываются за недавнее приобщение к высшим ценностям демократии (кого только к этим ценностям не тянуло); довольно будет и того, чтобы люди поняли, что они получают дивиденды от предоставляемой медиа прибавочной стоимости, на которую они имеют право как существа одомашненные.
В то же самое время одомашнивание интеллектуалов, то есть то, в силу чего интеллектуалы, которых, казалось, ни за что не приобщить к ценностям объявленного сначала ушедшим в прошлое мира, стали его первыми заступниками, то есть то, в силу чего они первыми стали заступниками собственных ценностей этого мира, и a fortiori с того момента, как сами эти ценности приняли, — одомашнивание это в чем-то остается загадочным.
Дабы оно имело место, потребовалось, чтобы интеллектуалы взяли в толк, что война, которую они до сих пор вели против этого мира, которую они вели ради того, чтобы настал такой день, когда от него не осталось бы камня на камне, не имеет более никаких шансов на победу; чтобы они взяли в толк, что война эта более не в состоянии придавать ценность тем позициям, которые оправдывали бы это их желание…
Желание чего? Если и не изменить мир, то, по меньшей мере, захватить в нем власть.
В таком случае приходится допустить: сколь запоздалое, столь и всецелое обращение в новую веру восходит к стремлению к выгоде, и ни к чему другому восходить не может. Да, власть не перешла из рук в руки; довольно было и того, чтобы те, кто к ней тянул свои руки, перешли из одного стана в другой.
В чем нет ничего нового — это сразу приходит на ум; ведь стан победителей всегда привлекал к себе тех, кто менее всего был расположен подписаться под этой победой. Но на сей раз имело место и кое-что другое, что было дозволено самим временем и средствами, которые оно для себя освоило. И что обязывает сказать, что изменилось не что иное, как само время и средства, которые оно для себя освоило.
Так что: примкнули к стану победителей? Да, если судить по старым меркам. Но в действительности имело место прямо противоположное: именно в силу того, что к этой победе примкнули те, кто ей во всем и во все времена противился, победа и придала этому времени соответствующие средства.
Такие средства, которые, похоже, уже ничем не ограничить. Которые никто больше и не хочет ограничивать. Да и не может.
В этом-то все и дело. И прежде всего потому, что еще можно сказать, что эта победа не была бы возможна, по меньшей мере, не достигла бы подобного размаха, если бы к ней не примкнули те, кто оспаривал ее как никто другой. Кроме того, потому, что сама победа видоизменилась из-за того, что они к ней примкнули.
Капитализм должен был одержать верх, в этом уже не приходилось сомневаться. Но господство появилось на свет не как следствие этой неизбежной победы капитала. Тут потребовалось кое-что еще: внезапная поддержка, оказанная ему теми, кто с ним некогда сражался. Поддержка судейских, которая ему не проходит дня чтобы не оказывалась. Равно как поддержка журналистов (ведь сколь показательным было число судей и журналистов, что во веки веков сражались с капиталом, и страсть как хотелось, чтобы люди задним числом в это поверили).
Господство представляет собой эту идеальную сумму, составить которую были в состоянии, но только скопом, те, кто располагал капиталами (что очевидно); плюс те, кто отныне выносил суждение касательно законности раздела капитала (ясно, что не касательно равенства этого раздела); плюс те, от кого отныне зависело то, чтобы не остались в тени все те операции, что могут навредить духу справедливости, каковой собственно капитал берется отныне представлять. Представлять то, что нет такого начинания капитала, которое бы всем сердцем не стремилось к тому, чтобы доказать, что всякое начинание капитала всем сердцем стремится к законности, потому как законность является и должна быть равной равенству величиной.