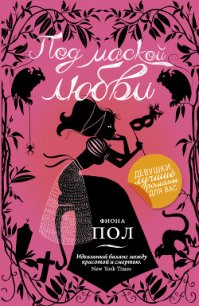Венеция. Под кожей города любви - Бидиша (книга бесплатный формат .txt, .fb2) 📗
Я сижу, прижав руку к губам, брови сдвинуты в сопереживании. Подвергся вооруженному нападению, ограблен в районе с дурной репутацией: что может быть страшнее для яппи.
— Урок, который я извлек: не лелеять никаких надежд, — вздыхает Эммануэле.
— Но это нелегко. Как можно не рисовать себе радужные картины, когда собираешься в другое место?.. Как твое вино?
Он морщит нос:
— Так себе. А у тебя?
— Так себе.
Мы снова погружаемся в объединяющее молчание, я переосмысливаю то, что только что говорила. Мне хотелось каких-то лирических сцен, и молчание как раз соответствует моменту, понимаю я.
— Скажи, Эммануэле, у тебя есть девушка?
На его лице мгновенно появляется огорченное, даже оскорбленное выражение — настоящая трагическая маска.
— Нет, — сетует он. — Нет девушки.
— Отчего же это?
— Потому что она меня бросила! — Голос его абсолютно серьезен, только горький смешок и колючий взор, устремленный на канал.
— Почему? Ты ведь не stronzo? — спрашиваю я вроде бы в шутку, а на самом деле серьезно.
— Нет… нет, я не stronzo, — мягко отвечает он.
Мгновенно меняется поза, теперь он нависает над столом, челюсти плотно сжаты, на губах зловещая улыбка. Глубоко запустив руки в шевелюру, он пытается вырвать сразу все волосы с корнем. Я как зачарованная наблюдаю за этими судорогами.
Эммануэле продолжает:
— Она оставила меня, потому что у нее психологический кризис и потому что она не очень умна… Нет, так нельзя сказать, это вранье… Просто она хотела какое-то время побыть со мной врозь…
— А когда она тебя оставила? — зондирую я, вспомнив, что говорила Тициана.
— В начале лета, — отвечает Эммануэле с ироничной усмешкой.
— Идеальное время, — отвечаю я в тон.
— Но, если честно, отношения мне всегда очень трудно даются, — признается он. — Было… несколько эпизодов… но меня это не вдохновляло.
— Я понимаю, о чем ты, но давай не будем сейчас об этом, это неважно.
— Нет, это было ужасно. У меня проблема с собственническим инстинктом.
— Правда? С твоим или твоих подруг?
— С моим. Я — собственник. Самое ужасное, что я ревную к прошлому. К тому, что имеется в жизни любого человека.
В ответ на это признание я взрываюсь негодованием — с виду шутливым, но по сути реальным.
— Ну, ты даешь! Ведь это же абсолютно несправедливо и нелогично… — Перехожу на медленный английский: — Да, прекрасный предлог, чтобы изводить кого-то, обвинять в том, что уже невозможно изменить и что вовсе не твое дело, — я серьезно…
Эммануэле опускает голову и прячет лицо в ладонях.
— Я понимаю, — стонет он. — Но ничего не могу поделать, в меня словно демон вселяется. Это одержимость!
— Как удобно! «Это был не я, это все натворил демон». Ты должен измениться!
— Да знаю я! Знаю! Ты права! — завывает он. — И еще одно, мне не нравятся узы. Не хочу и не могу быть частью пары, вечно все согласовывать с другим человеком, всегда представать в глазах других как часть дуэта.
— Тут мы с тобой совпадаем, — киваю я. — У меня прямо клаустрофобия начинается от сознания, что я сосуществую с кем-то на общем пространстве. Я люблю быть одна. Люблю работать одна. Люблю спать одна.
— Мне нравятся двуспальные кровати, но… для себя одного, — заявляет он.
Я улыбаюсь:
— Я гораздо дольше одна, чем ты. И перед тем тоже практически все время была одиночкой.
— И тебя это радует?
— Да, на самом деле. У меня совсем другие мечты, более порочные, — о работе, путешествиях и славе!
— Намного порочнее!
— Да, я скучаю по поцелуям, иногда. Но, когда мне было двадцать, я два года носила металлические скобки на зубах. Они крепились эластичными колечками и вверху, и снизу. И поверь мне, это отпугивает всех, каким бы интересным человеком ты ни была.
— А оно того стоило?
— В смысле зубов? Да, теперь я ими вполне довольна…
— У тебя потрясающие зубы…
— Спасибо, мне все это говорят…
— И такие белые…
— Я очень тщательно их чищу. И десны тоже. Вот и весь секрет.
— Мне кажется, ты не любишь, чтобы жизнь приносила неожиданности, — говорит Эммануэле.
— Возможно. Но мне не хочется продолжать этот разговор.
— Но после двух бокалов вина разговор обязательно заходит о любви, — обороняется он.
— Ладно, давай просто сменим тему. Я поделюсь с тобой своим наблюдением, а ты мне объяснишь, в чем тут дело. — И я продолжаю: — Венецианцы очень элегантны.
— Ты так думаешь?
— Несомненно. Им присущ классический стиль, который мне так нравится. Невероятное чувство цвета.
— Это оттого, что Венеция — маленький городок, не коммерческий центр. Моды и течения его не затрагивают, так что стиль остается, а преходящие причуды не задерживаются. Правда, у меня есть подруги, мои ровесницы, а одеваются как сорокалетние! Кое-кто из них по виду годится в друзья моей матушке! Честно, я их даже путаю! «Мама?» В таких городах, как Рим и Милан, все молодые люди выглядят одинаково, как будто с конвейера, — и все, как с клипов MTV.
— Я предпочитаю классический стиль. Классические формы.
— Я тоже, — отвечает он. — Потому что на самом деле я старик. С того времени, как мне исполнилось восемь лет, я стал сорокалетним. И все мои ценности — это ценности старика. Я забочусь о своем пищеварении, и еще я не умею врать. Просто не могу, я ужасно себя чувствую.
— И я тоже! — радостно откликаюсь я.
— И я люблю, чтобы люди звонили, если обещают. Уважаю пунктуальность. И прямоту высказываний.
— Я заметила. Ты и впрямь взрослый мальчик.
— Говорю тебе! Я очень старый!
А потом происходит нечто, что снова подсказывает: мы с Эммануэле не сможем подружиться по-настоящему. В стороне проходят двое, юноша и девушка, и Эммануэле, узнав их, вскакивает, чтобы поздороваться; ко мне он поворачивается спиной. Я остаюсь сидеть, издали рассматривая всю троицу. Меня это не обижает, я просто не вкладываю в это ничего серьезного и не воспринимаю как реальную жизнь — моя реальная жизнь там, где Джиневра и Стеф, и еще там, где я одна.
Постепенно понимаю, что мы с парнем знакомы, — встречались как-то у Стеф. Девушка молча стоит рядом с ним, а когда он упоминает (я слышу это), что был у врача, она строит сочувственную рожицу, гладит его по руке и поглядывает на Эммануэле так, будто призывает его тоже проявить участие. Парень на все это практически не реагирует, только помаргивает важно, как император. На протяжении разговора — а он длится минут пятнадцать, не меньше — Эммануэле меня полностью игнорирует, как парень игнорирует девушку. Я улыбаюсь ей, но наталкиваюсь на отстраненный, даже враждебный взгляд.
Мы допиваем вино. На сей раз я настаиваю, чтобы заплатить. Мы держимся дружески, подталкиваем друг друга, смеемся как ни в чем не бывало. Пока я расплачиваюсь, Эммануэле, пошарив в кармане, извлекает странную монетку.
— Что это? — спрашиваю я.
— Это мексиканский доллар. Вот. Я тебе его дарю.
Смеюсь от удовольствия и внимательно рассматриваю монету. Он присоединяется, и мы стоим, почти касаясь головами.
— Вот растение, кактус, — говорит он.
— Где? Где?
— Да вот же… подожди… ой, я у тебя ее забрал.
— Ну уж нет, это подарок!
Я прячу монету в карман, а дома бережно укладываю ее рядом с маленьким деревянным Буддой, памятью о вечере в «Harry’s Bar». Два воспоминания о Венеции. Мы не спеша возвращаемся к церкви Фрари.
— Бармены в «Postali» и «Торро» похожи, правда? — говорю я. — Бледные, седые, и что-то есть от Дракулы.
— Они братья, — острит Эммануэле.
— Но вино в «Postali» было не шедевр. Как тебе кажется?
— Да, у его братца вино получше!
— Тебе не нужно заниматься? — беспокоюсь я. — Ты говорил, что повторяешь материал.
Мы разговариваем непринужденно. Вокруг нас ни души.
— А я повторяю, — уверяет он. — Я здесь, с тобой, а думаю о Карле Поппере [34].