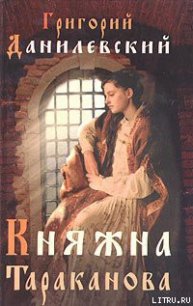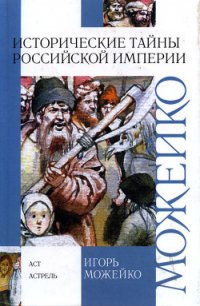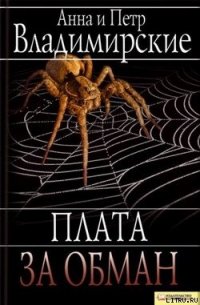Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
— А, Насти! Стало быть, ты сын князя Никитки, что нас-то с мужем в ссылке держал и мучил? Ух, зло мучил!
— Он умирает и прощенья просит.
— Коли прощенья просит, надо простить! Вот Мишенька-то мой всех простил, а от него, князя Никитки, и в гроб пошёл. Сама государыня смилостивилась, простить хотела, а этот злодей... но ты говоришь, он болен, мучится. Ехать нужно, ехать! Постой, нужно приодеться; что ж я такой чучелой! Я ведь его, почитай, больше двадцати лет не видала! Говорят, после Насти-то он на другой женился. Ты вот выйди на минуту, я мигом снаряжусь.
Князь Иван Никитич вышел; и точно, не прошло пяти минут, как графиня выбежала и проговорила скороговоркой:
— Ну, едем, едем, скорей едем! — И, схватив его под руку, она потащила за собой. — Едем же, — повторила она. — В самом деле, он тебе отец! Мучил он нас, мучил, а теперь сам мучится. Бог с ним! Нужно успокоить, облегчить... Миша всех простил, и я прощаю! Едем!
И она тащила его за собой.
Графиня Катерина Ивановна как сказала, что она переоденется, так и сделала. Она точно переоделась, но так, что князь Иван Никитич только рот разинул от изумления. Говорить, впрочем, он не признал нужным, да было и некогда; она решительно его тащила. Он посадил её в свою карету и привёз к отцу в том самом виде, как она была.
А изумиться было отчего при взгляде на одетую графиню Катерину Ивановну. Во-первых, на ней надеты были великолепные бриллиантовые серьги и ожерелье и дарённые ей ещё дедом князем-кесарем и которые так резко оттенялись и так не соответствовали её жёлтой, морщинистой шее и ушам. Графиня Катерина Ивановна подумала: «Поди, князь Никитка думает, что всё распродала, всё растранжирила, ан у меня всё цело, всё сбережено!» И вот, под влиянием мысли, что пусть, дескать, видит, что всё сбережено, она надела на себя самые дорогие свои вещи. А как было не особенно тепло, то для теплоты вместе с ожерельем она надела серый пуховый из ангорской козьей шерсти платок. Потом на какую-то не то холстинковую, не то набивную синюю юбку надела шитый золотом, по пунцовому бархату, и обшитый золотыми кружевами спенсер. На ногах, вместо башмаков, у ней были надеты серые валяные коты. На спенсер был накинут, тоже для теплоты, грязный, изорванный нагольный полушубок, снятый на промен с нищего; растрёпанные седые волосы она прикрыла парчовой кичкой, сшитой, вероятно, ещё матерью её деда князя-кесаря, с жемчужными подвесками или поднизью. Но что было всего замечательнее, так это то, что графиня, надев кичку и взглянув в зеркало, признала, что «желта она очень, что нужно подрумяниться и не след свою худобу на людей выставлять!» И вот она взяла румяна и натёрла ими густо одну щёку, а другую, по рассеянности, тоже натёрла, только не румянами, а чёрным угольным порошком, так что с одной стороны явилась она красной, а с другой — чёрной. Если ко всему этому прибавить растерянный вид, бледные мертвенные губы, выставляющийся изо рта чёрный зуб и текущий из носа табак, то портрет графини Катерины Ивановны Головкиной в данный момент обрисуется сам собой.
В таком виде князь Иван Никитич привёз её к отцу; в таком виде и вошла она в спальню Никиты Юрьевича.
Никита Юрьевич не заметил ни странности в костюме и гримировке графини Катерины Ивановны, ни её затерянного, но своеобразного настроения. Он увидел в ней ту, которую знал тридцать лет тому назад, и не столько взглядом, сколько чувством, предведением, угадал её прибытие.
— Развяжите меня, пустите меня! — закричал он, когда она шла ещё только в первых комнатах его обширного дома. — Пустите, я прошу, я приказываю! — кричал Никита Юрьевич. — Проклятие тому, кто не развяжет меня!
— Но доктора, мой друг... — начала было говорить княгиня Анна Даниловна.
— Уходи к Богу с твоими докторами! Помилуй, разве они помогли мне? Я просил уморить, так и того не умели или не хотели. Пустите же меня!
И он не застонал, а как-то завыл от боли и от нетерпения. Лицо его всё перекосилось.
Его развязали.
Графиня Катерина Ивановна вошла. Никита Юрьевич хотел броситься перед нею на колени, умолять о прощении; хотел высказать своё состояние вины перед её мужем, а главное перед ней самой. Но вместо всего этого он, освобождённый от своих пут, заплясал, и ещё как заплясал.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Графиня Катерина Ивановна взглянула на него и остановилась.
— Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, — проговорила она, останавливаясь в дверях и осеняя Никиту Юрьевича крестным знамением. — Давно ли с тобой это, князь Никита? Перестань тешить дьявола, остановись!
И — такова сила твёрдой воли, таково могущество желания — князь Никита Юрьевич почти в ту же секунду остановился, хотя весь дрожал и нервные подёргивания продолжались.
Тут произошло нечто необыкновенное. Сперва он весь вытянулся, повернул как-то судорожно головой и вдруг бросился в ноги вошедшей графине.
— Прости, матушка-сестрица! Знаю, что виноват, кругом виноват! Всё я, точно я, без меня ничего бы и не было! Я клеветал, я путал, я мучил. Прости, сестрица, дорогая моя! Умереть не могу, мучусь-мучусь, а не умираю; всё оттого, что ты не простила! Прости, прости!
— Бог тебя простит, князь Никитка! Бог простит! Ты теперь сам видишь, что злое посеешь, злое и вырастет! Великий грех на свою душу вы принимали, и дед мой, и ты. Людей ломали, естество человеческое терзали. Из жажды чести земной от человечества отрицались. Велик грех, но Бог милосерд. Я тебе и от Миши прощенье привезла. Тяжко было ему умирать на чужой стороне, но он простил, всех простил; теперь и я тебя прощаю, за всё прощаю!
— Благослови меня, сестрица моя, благослови, голубушка! Ты святая у нас, благослови умереть с миром! — говорил Никита Юрьевич, не поднимая головы от её ног. — Много зла посеял я, много душ погубил, ещё больше измучил. Бог проклял меня, и я горю, весь горю! Вся внутренность сгорела во мне, а я живу, живу, чтобы мучиться. Но твоя молитва всё снимет, всё умирит. Благослови, родная моя, помолись за меня, облегчи меня, дай душе успокоиться. Благослови!
Графиня Головкина протянула руку для благословения, но остановилась. Она подумала: «Прежде всего молитва» и проговорила с каким-то вдохновенным выражением:
— Молись и слушай, князь Никита; слушай и молись!
С этими словами она подняла глаза свои на образ, осенила себя крестом, простёрла над лежащим у её ног Трубецким руки, как бы призывая к нему милость Божию, и начала псалом:
— Живый в помощи Вышнего...
Кругом царствовало мёртвое молчание. Катерина Ивановна читала псалом. Твёрдо, вдохновенно произносила она каждое слово, с невыразимым благоговением устремляя взор свой к образу. И ни её гримировка, ни раскраска, ни костюм, ни даже текущий табак не нарушили той картины святости, которая исходила из её сердечной доброты в искренней, тёплой молитве за её врага-мучителя.
Она кончила. Всё молчало.
— Прощаю и благословляю раба твоего, Господи, Никиту. Да снизойдёт на него вместе с моим благословением твоя милость Божия, мир душе и телесное успокоение!
Встань! Поцелуемся, брат Никита, во имя Отца и Сына и Святого Духа, да забудется прошлое и будет между нами мир и любовь!
С этими словами она его перекрестила.
Трубецкой встал, поцеловался с ней и тоже перекрестился.
— Благодарю, сестра, теперь я умру спокойно! Подведите мне детей, я их благословлю!
И он сам, без малейших подёргиваний и судорожных сотрясений, подошёл к креслам, сел и по очереди стал благословлять детей своих.
Графиня Катерина Ивановна уехала.
— Ещё раз прошу твоего прощения, Китти, — сказал он, благословляя свою младшую дочь, — что забывал даже в себе чувство человечества!
— О папа, папа, — вскрикнула Китти, — разве можно думать о том?
И она бросилась к нему на грудь. Но грудь эта уже не билась: Никита Юрьевич отошёл к суду Божьему.
Китти упала на колени, помолилась и закрыла глаза отцу.
Все обступили покойного.