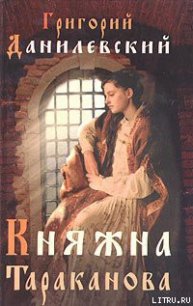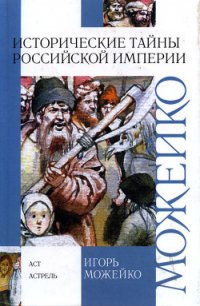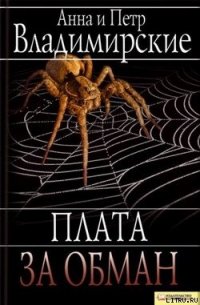Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Офицер взялся доставить письмо и через полчаса принёс словесный ответ: «По высочайшему повелению». Потом будто от себя прибавил:
— Княжна, вы с графом Орловым вошли в соглашение действовать во вред царствующей государыне; граф Орлов хотел смутить вверенную ему эскадру. Удивительно ли, что государыня приказала вас и его арестовать?
Сказав это, мичман взглянул на неё с невольным чувством сожаления. Он был молод. Красота заключённой произвела на него впечатление. По ответу, который он ей передал, она понимала, что она жертва интриги и что к ней отнесутся непременно с той жестокостью, которая всегда, сама собой, исходит из политической интриги.
Али-Эметэ заметила его участие. Она захотела развить это участие и стала говорить о своих несчастиях, прошлых и настоящих.
— Неужели ещё недовольно меня преследовала судьба, — говорила она. — Неужели было недовольно того, что, рождённая для царственной доли, я должна была ребёнком испытать гнёт каземата, потом быть занесённой в глубь Сибири. Спасённая добрыми людьми из ссылки, я должна была расти оторванной от всего, что могло быть дорого даже ребёнку. Но вот судьба, казалось, сжалилась надо мной, дала мне возможность взглянуть свободной на белый свет, и для чего же? Для того, чтобы вы стали моим тюремщиком?
Офицер вспыхнул.
— Княжна! Я морской офицер, поэтому тюремщиком никого быть не могу! Я был прислан с вахты узнать о ваших желаниях и в чём можно удовлетворить их, а никак не стеснять и не ограничивать вашей свободы. Это дело не моё; дело старших. Моё дело исполнять приказания, которые не касаются моей чести. Если же вам не нравится моя личность, то всё равно вместо меня явится другой.
— О нет, нет! Я не то хотела сказать; я понимаю, что вы не виноваты в моей участи. Я хотела только, чтобы вы имели сожаление к узнице, которая виновата в одном — в доверчивости. Виновата я в том, что верила и верю людям, хотя столько раз на себе испытала их злобу. Если мне суждено безвинно погибнуть от моих врагов, то полагаю, всякий честный человек не откажет мне, по крайней мере, в своём участии и даже посильной помощи. Я, по крайней мере, так думаю!
— С моей стороны, княжна, смею уверить...
— Не уверяйте, а вот сделайте для меня: передайте от меня письмо графу Орлову!
— Княжна! Это может стоить мне моей службы. Но извольте, я передам, чем бы это ни кончилось и чего бы это ни стоило! Приготовьте письмо...
Али-Эметэ писала Орлову, что ей странно, что в минуту, когда она подверглась опасности, его не было подле неё; но что тем не менее она верит ему и любит его беспредельно. Она верит, что он — её рыцарь, её герой, если вследствие подозрения в их взаимных сношениях и попал в те же тягостные условия, что и она, то найдёт способ уничтожить все враждебные против них замыслы и, освободившись сам, освободит и её.
Письмо было написано весьма нежно, как к человеку, истинно и горячо любимому. В конце письма прибавлялось, что она не может ему не верить, так как нежность его оставила свой след, и она надеется, что милость Божия осенит её продолжением славного имени героя чесменского, так как чувствует первые припадки, доказывающие, что она носит под своим сердцем залог его любви к себе.
Но всякий расчёт на нежность чувства графа Орлова был ошибочен. Письмо Али-Эметэ, полное беспредельной преданности и нескончаемой нежности, дало ему только повод писать императрице Екатерине: «Она ко мне казалась быть весьма благосклонной, для чего и я старался быть перед ней весьма страстен и уверил, что с охотой бы женился на ней, хоть сегодня же, чему, обольстясь, она больше поверила».
Впрочем, он отвечал и Али-Эметэ. Он писал ей: «Я нахожусь в том же несчастном положении, что и вы, хотя мне и удалось бежать с корабля, на котором мы были. Но мою шлюпку догнали; и я в заключении очутился между четырьмя кораблями, должен был сдаться. Преданность офицеров, — писал Орлов, — даёт мне надежду на освобождение; поэтому не должно отчаиваться. Всемогущий Бог не оставит нас! А я, как только получу свободу, сыщу вас хоть на краю света, чтобы служить вам. Только берегите своё здоровье, берегите себя, об этом умоляю вас! Предоставим судьбу нашу Всемогущему Богу! Письмо ваше я читал со слезами; от всего сердца целую теперь ваши ручки».
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Письмо было без подписи; но любящее сердце угадало, от кого оно. И странное дело, не довольно ли было мужчин, которых Али-Эметэ имела все права называть своими. Все они были ей преданы беспредельно, до самозабвения. От Ван Тоуэрса до принца лимбургского, от Рошфора до Доманского и Чарномского, все ей жертвовали всем, и ни об одном из них она никогда не думала, ни об одном не вспоминала. Всецело мысль её была занята одним Орловым; все надежды её исключительно сосредоточились на нём одном. Она готова была отказаться и от имени, которое приняла, и от блестящего положения, о котором мечтала, чтобы только он осчастливил её своей лаской, чтобы в нём видеть себе отраду и спокойствие. И опять странность, такова, видно, сила чувственности: все те, которые пользовались её благосклонностью, которые ласкали себя надеждой быть ею любимыми, от Шенка, Марина, Огинского и опять до того же Лимбургского, — которые всю жизнь свою сохраняли отрадное воспоминание о счастливых минутах, проведённых с нею, — не оставили никаких следов своих отношений к ней. Она о них забыла, как забыла всё, что она придумывала, что она сочиняла, да и не было повода их особо помнить, хотя с иными её близкие отношения продолжались целые годы, и между ними были люди молодые, цветущие здоровьем, как Ван Тоуэрс, Шенк, Огинский, Доманский и Чарномский. Но всё это не оставило следа даже в воспоминании. Менее месяца она могла назвать Орлова своим, и вот след — беременность.
Получив письмо от него, она успокоилась. Она была в такой степени убеждена в его всемогуществе, что готова была верить, что по его слову самый корабль распадётся, чтобы она могла на крыльях ветра лететь в его объятия. Она ждала его каждый час, каждую минуту. Вся жизнь её обратилась в ожидание. Малейший шорох, малейшее движение на корабле её уже волновали; она думала: «Вот он — мой рыцарь, мой герой, мой идеал. Он войдёт и освободит...»
А эскадра шла, шла и шла; наконец зашла запастись водой и провизией в Плимут.
Там камердинеру Али-Эметэ удалось достать английские газеты. Он принёс и своей княжне.
В газетах была рассказана в подробности история её плена и возврат Орлова в Россию сухим путём, чтобы не быть застреленным или окормленным иезуитами, как он писал Екатерине, или другими соумышленниками вклепавшей на себя имя, подозревая в ведении всей интриги Ивана Ивановича Шувалова. Из этого рассказа она убедилась, что все её отношения к Орлову были только изменой, обманом, самой низкой ловушкой на приманку соединения двух страстей — честолюбия и любви. Отчаянию её не было предела. Она хотела из кормовой галереи броситься за борт. Её не допустили. Хотела отравиться и для того думала подкупить доктора своими бриллиантами. У ней взяли бриллианты и не принесли никакого острого оружия, даже иглы. Одним словом, приняли все предосторожности, чтобы доставить её в Россию живой, и действительно доставили, хотя здоровье её, сперва от беспрерывного ожидания, а потом от безысходного горя и отчаяния, сильно пострадало. Она начала харкать кровью.
Но как бы там ни было, здоровую ли, больную ли, но её привезли, и вместо царственной встречи, о которой мечтала она, рассуждая с Орловым о свержении Екатерины с престола, её, как колодницу, под строгим караулом, препроводили в Петропавловскую крепость.
«Господин контр-адмирал Грейг, — писала Екатерина командиру эскадры, привёзшей Али-Эметэ. — С прибытием вашим поздравляю и вестию сею весьма обрадовалась. Что же касается известной женщины и её свиты, то сих вояжиров снимет от вас фельдмаршал князь Голицын. Впрочем, будьте уверены, что служба ваша всегда в моей памяти и я не оставлю дать знаки моего к вам доброжелательства.
Екатерина».