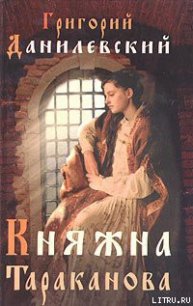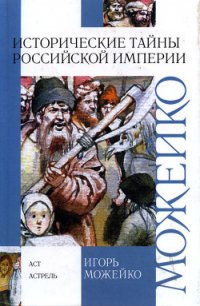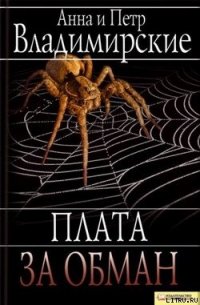Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы - Сухонин Петр Петрович "А. Шардин"
Естественно, что она интересовалась всего более ближайшими членами своей фамилии.
Со слезами на глазах она выслушала грустную историю своей кузины Аграфены Васильевны, поступившей в монастырь, чтобы уклониться от предлагаемого ей отцом жениха, и потом вышедшей замуж за Марьина, хотя и с благословения родителя, простившего её перед смертью, но, должно быть, не с благословения Божьего, ибо брак их был несчастлив. Марьина, на другой год после свадьбы, разбил паралич, и бедная Аграфена Васильевна десятый год ходит за больным мужем, не имея ни покоя, ни отдыха. Говорил отец Ферапонт также и о другой её кузине, Елизавете, гостившей после смерти матери у Разумовской, урождённой Нарышкиной, и там вышедшей замуж за какого-то иностранного графа, который и увёз её с собой за тридевять земель в своё чужестранное государство; как говорят, там она стосковалась по стране родной, по рекам её многоводным, по лесам сосновым да по зиме холодной, суровой, но родной, — стосковалась и умерла в родах.
Иногда в беседах Настасьи Андреевны с старцем архимандритом принимал участие и старик Анисим Антонович Чернягин, её главноуправляющий и душеприказчик, доверенный отца и кузена, видимо оправдавший их общую доверенность и тоже любивший беседы отца Ферапонта и сочувствовавший его занятиям.
В одну из таких бесед, по какому-то поводу, говоря, кажется, о разгроме, произведённом Пугачёвым в низовьях Волги, Чернягин упомянул имя княжны Владимирской, самозванки, объясняя, что, по справедливости, этим именем могла пользоваться только она, княжна Настасья Андреевна и что явление самозванки с фамилией Владимирской ложится клеймом на род князей Зацепиных.
— Ах, Боже мой! С этими хлопотами, которые меня окружили здесь при моей невольной грусти, я совершенно упустила её из виду, тем более что я ничего о ней не слышу, — сказала Настасья Андреевна. — Где эта самозванка, что с ней? Если она ещё существует, я должна её изобличить... Это я признаю своею обязанностью и ещё в Америке дала слово.
— Святое твоё слово, матушка княжна. — Зацепинские обитатели никак не хотели называть её иначе, как её девичьим именем. — Нельзя допускать своё имя выставлять на позор, для прикрытия каких-то тёмных замыслов, — сказал отец Ферапонт. — Изобличить самозванку долг твоей чести. Ты обязана сделать это ради славы твоего рода, ради своего имени! Наконец, подумай об ужасах, о страшном опустошении, которое произвёл Пугачёв. Предотвратить новое подобное опустошение, и ещё под твоим именем, — это святой долг не только русской, но всякой христианки!
— Я говорю вам, святой отец, что я дала себе о том слово ещё в Америке и говорила об этом ещё моему покойному другу, который также находил, что это мой долг. Но только где же она, и какой путь следует избрать к её изобличению?
— Да теперь что-то о ней всё смолкло, — сказал Чернягин, — а вот года три назад, как я был в Москве, так говорили, что в Петербург привезли какую-то самозванку, называвшую себя будто бы дочерью императрицы Елизаветы, какую-то, говорили, Тараканову. Но кто была эта Тараканова, и та ли, которая называлась княжной Владимирской, и куда она потом скрылась, никто ничего не знал.
— Да самый лучший путь написать, а ещё лучше самой съездить и сказать прямо государыне. Она же у нас, матушка, доступная, всякую просьбу выслушивает, во всякое дело сама вникает.
— Как, мне ехать в Петербург, к государыне?
— Что же такого? Кто лучше может знать, что тут нужно для изобличения и прекращения всякого самозванства и его ядовитых последствий? Она сейчас же укажет, что нужно; а вас, княжна, только благодарить будет, что вы поможете ей эту интригу прекратить, этот замысел потушить.
Чернягин, как ни опытен он был в практической жизни, тоже советовал ехать. Ему и в голову не приходила разница между практикой общественности и практикой политики, до такой даже степени, что едва ли бы он понял, если бы кто ему сказал, что тут вопрос не просто жизни, а вопрос политической интриги.
Под влиянием сознания своей родовой обязанности и согласно совету своих искренних друзей, Настасья Андреевна собралась ехать в Петербург.
После того как Орлов оставил крепость и доктору удалось привести Али-Эметэ в себя, начались потуги родов.
Голицын прислал к ней акушерку и бабку. Роды были трудные, однако ж она их перенесла. Родился сын, названный Александром. По желанию государыни, генерал-прокурор князь Александр Алексеевич Вяземский, женатый уже на Елене Никитичне Трубецкой, был его крёстным отцом, а жена коменданта Петербургской крепости Татьяна Семёновна Чернышёва — его крёстной матерью. Ей было поручено наблюдение за ребёнком в течение первого года его жизни. К малютке была приставлена кормилица из приисканных предварительно молодых и здоровых крестьянок Охтенской слободы и назначен полный штат ухаживалыциц, по тогдашнему обычаю. Екатерина говорила:
— Я не хочу, чтобы ребёнок в чём-нибудь нуждался, я не мщу ребёнку за мать.
— Но как назвать его? — спросил у неё Вяземский.
— Александр Алексеевич Чесменский, дворянин неизвестного происхождения! — отвечала государыня.
Разумеется, так его и записали. Причём Вяземский подумал: «Вот государыня всё ищет пружину пружин. Кто, дескать, выдумал, кто самых иезуитов направил? Сказал бы я ей: «Будь покойна, государыня, царствуй на славу нам! Этой пружины пружин нет на свете. Она умерла, как и все мы когда-нибудь умрём». А если бы порыться в отношении моего достопочтенного тестюшки князя Никиты Юрьевича, то, как ни был он осторожен, всё бы, думаю... Но, разумеется, не я наведу её на эту мысль; напротив, в чём можно, прикрою, схороню, ради моей Леночки!.. Впрочем, государыня так умна, что и сама соображает, хоть и молчит, что с той самой поры, как мой тестюшка умер, и самозванцев не стало».
Перенеся трудные роды, Али-Эметэ была ещё в силах говорить и рассуждать, хотя было видно, что это были последние проблески её жизни.
При ней находилась Мешеде почти безотлучно. Эта бедная и недалёкого ума шляхтенка, обманутая величием и блеском Али-Эметэ в Лимбурге, Оберштейне и потом Венеции, рассчитывавшая возвысить себя службой при русской великой княжне и вместо того попавшая под гнёт политической интриги, в которой она могла быть раздавлена, смята, смолота, как попавшее в мельничный жёрнов зерно, — вместе с тем успела к ней привязаться сердечно. Разумеется, все мечты её теперь испарились как дым. Ни о каких фрейлинах и статс-дамах не могло быть и мысли. Бог дал бы только выбраться из этой крепости, а там... «О всех этих княжнах да принцессах и думать забуду», — говорила себе Мешеде. С ней же передопрашивавший её Шешковский не поцеремонился, как князь Голицын с Али-Эметэ, и, говорят, два раза посёк её таки порядочно. Но, несмотря на все эти перенесённые ею несчастия, на всю тяжесть выносимого ею гнёта, несмотря на весь страх перед розгами, которые для неё казались страшнее смертной казни, она ни в чём не оговорила Али-Эметэ, ничего не выдала из её тайн. Находясь при ней именно безотлучно, сперва на корабле «Три Иерарха», потом в крепости, кроме тех немногих дней, когда Голицын хотел добиться от Али-Эметэ признания строгими мерами, — она служила ей со всей силой своей сердечной привязанности. Разумеется, в этой службе не было уже надежд на повышения, награды, устройство своей участи; но была любовь, привязанность, искренняя, душевная, которую нельзя купить никакими благами мира. Али-Эметэ не могла этого не видеть и понять... Говорят, сердце сердцу весть подаёт. Поэтому, в минуту страдания и бессонницы, когда Мешеде подавала ей лекарство, а вся крепость, кроме часовых, разумеется, спала мёртвым сном, она обратилась к ней с вопросом:
— Что сделали с ним?
Мешеде угадала, что вопрос идёт о ребёнке.
Она рассказала, что слышала и из чего в крепости не делали особой тайны, что для ребёнка взяли кормилицу и отдали на попечение комендантши и что, говорят, сама государыня обещала о нём позаботиться.