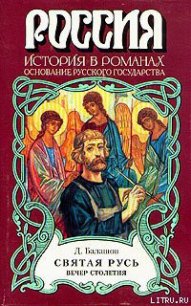Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
Земля, однако, была богата. Виделось это и по снеди, ежедневно доставляемой в монастырь, и по нарядам знати, и по малому количеству нищих и сирот на папертях храмов, хотя предыдущие годы были зело тяжкими, поскольку ратный разор усугубился засухою и неурожаем…
Ехать в Троицкую пустынь, как собирался Киприан, стало неможно из-за раскисших путей. Но ему обещали, что старец вскоре должен явиться в Переяславль сам вместе с племянником Федором, игуменом Симонова монастыря на Москве.
— Как же они-то доберутся сюда в распутицу? Неужели верхом?! — удивленно спрашивал Киприан. Ему только улыбались в ответ.
Старец пришел в лаптях и с посохом, в крестьянской дорожной сряде из грубого сукна, линялого, заплатанного и покрытого странными белесыми пятнами. Они вместе с племянником добирались, оказывается, какими-то потайными тропами через леса, где под елями, в гущине ветвей, еще держался твердый наст и возможно было пройти на коротких охотничьих, подшитых лосиною шкурою лыжах.
Услышав обо всем этом и увидев путников с торбами за плечами, старого и молодого, которых он, ей-богу, принял бы за нищенствующих крестьян, Киприан только вздохнул.
Алексий, принимая старцев, радостно раскрыл объятия. Сергий скользом, стремительно, озрел Киприана, прежде чем подойти к нему для лобызания. От старца пахло заношенною сермягой, дымом и лесом, с лаптей его и мокрых до колен онучей тут же натекли лужи, чего никто из русичей как-то вовсе не замечал, и только сияющий Алексий вопросил что-то, указывая на дорожный вотол Сергия. Тот весело рассмеялся, а Федор, блестя глазами, рассказал, что сукно это, с пятнами, испорченное при окраске, никто из братии не пожелал брать, и тогда сам Сергий сшил себе из него вотол и вот носит в укор инокам, которые теперь казнят друг друга за прежнее глупое величание.
Сергия здесь явно любили. Горицкий настоятель, келарь, эконом, экклесиарх, иноки, служки бегали в хлопотах, теснились получить благословение у троицкого игумена.
Скоро старцы, разоболокшись от верхней сряды, перемотав онучи (сменная сряда была у них захвачена с собой), сменив мокрые лапти на сухие (Федор, так тот достал и не лапти, а легкие кожаные выступки) и отстояв короткую благодарственную службу в храме, были уже в настоятельском покое, за столом, уставленном хотя и не бедно, но отнюдь не так, как был уставлен стол у княжеского печатника. Сверх того, и оба игумена, хотя и выхлебали уху и отдали дань разварной рыбе, как-то очень быстро отстранились от едва утоленной ими плотской нужи, являя истинный пример того, что не плоть, но дух должны водительствовать в теле смыслена мужа, тем паче — старца.
За столом говорили больше о монастырских надобностях, Киприан же, присматриваясь, молчал. Рассказанное Дакианом не выходило у него из головы. Впрочем, старец Сергий был, ей-богу, не страшен! Худощавый, с лесными озерными светлыми глазами, быть может несколько близко расположенными друг к другу, что придавало его взору по временам какую-то настороженную остроту, с рыжеватою густою копною волос, заплетенных сзади в косицу, со здоровою худобою запавших щек, он, невзирая на свои пятьдесят лет, почти еще не имел седины в волосах или морщин на лице да и не горбился станом. Руки у него были мужицкие, грубые и одновременно чуткие, с долгими перстами. Странные руки, ибо решить по ним, кто перед тобою — пахарь, плотник или философ — было бы даже и затруднительно.
Племянник Сергия был свеж, воинствен, ярок взглядом хотя и более хрупок, чем Сергий, и, видимо очень увлечен делами созидаемого монастыря. Ему было едва за тридцать, возраст мужества, когда уже неможно медлить и размышлять, а надобно творить, созидать, делать, иначе пропустишь, истеряв на суетные мелочи, всю дальнейшую жизнь. И, видимо, Федор хорошо понимал это и спешил изо всех сил исполнить жизненное предназначение свое. Временами на его щеках являлся чуть лихорадочный румянец, а брови сурово хмурились. В нем бушевала, бурлила внутренняя, сдержанная токмо воспитанием и навыками монашества энергия, переливая изредка через край, и потому то, что делал он, казалось и ему и окружающим даже — «самым-самым». Самым важным, самым существенным теперь, когда войны, моровые поветрия, возмущения стихий, многоразличные беды, — именно теперь важнее всего созидание общежительных обителей ибо только они возмогут явиться вместилищами духа и питомниками духовных водителей Руси! Федор был к тому же иконописец, и это чуялось в страстных движениях рук, коими он достраивал, живописуя в воздухе, украсы речи, когда не хватало слов. Старец Сергий сдержанно и чуть-чуть лукаво наслаждался племянником.
Оттрапезовав, перешли в гостевую келью, и тут наконец разговор перешел на дела константинопольской патриархии. Старец Сергий как-то незаметно стушевался, сев сзади на лавку, и, к вящему облегчению Киприана, кажется, задремал. В разговоре, то и дело переходя на греческий, участвовали: Алексий, Федор и игумен Горицкого монастыря. Федор, оказывается, тоже изучал греческий и имел неплохое произношение, хотя слов ему порою и не хватало. (Выяснилось, что учителем его был византийский монах, тоже Сергий по имени, перебравшийся на Русь и достигший в конце концов, переходя из монастыря в монастырь, Троицкой пустыни.) Киприан, избавившись от взгляда светлых настороженных глаз, почти позабыл про радонежского игумена. Федор жадно расспрашивал о попытках Палеолога установить унию с Римом, заставив Киприана прочесть целую схолию об отличиях римско-католического вероучения от православного, причем коснуться пришлось не токмо пресловутого «филиокве», догмата о непорочном зачатии Богоматери и принципа соборности — поскольку папы претендовали на высшую непререкаемую власть в христианской церкви, — но и устройства и уставов монашеских орденов, в частности, ордена миноритов, но и толкования предопределения в сочинениях Августина Блаженного, но и политической борьбы Венеции с Генуей на Греческом и Сурожском морях, но и отношений Галаты с Константинополем, но и споров внутри императорской семьи, но и турецкого натиска и соответственно требований мусульман к православным храмам и греческому населению в захваченной ими Вифинии…
Киприан говорил и видел, что Федор жадно впитывает все, запоминая и делая для себя какие-то внутренние выводы. Ему пришлось объяснять, как устроены патриаршьи секреты, что делают хартофилакт, сакелларий, протонотарий и прочие, кто и как обсуждает грамоты, посылаемые на Русь, и еще многое другое, чего он не очень и хотел бы долагать русичам, но, однако, рассказывал, уступая необычайному напору Федора Симоновского.
Алексий сидел, отдыхая, слушая и любуясь юною горячностью Сергиева племянника. А Сергий все это время отнюдь не спал, а внимательно смотрел в спину Киприану и, уже не вдумываясь в слова, начинал все более чувствовать и, чувствуя, понимать этого велеречивого синклитика.
Когда он понял, что Киприан прибыл на Русь, дабы сменить Алексия, улыбаться ему уже расхотелось. Он стал внимательнее разглядывать Алексиево лицо. Неужели владыка не видит, кто перед ним? Или… Нет, Алексий не хотел видеть этого! А Киприан? На чем он строит возводимое им прехитрое здание? На благосклонности к нему литовских князей? Но они все тотчас перессорятся со смертью Ольгерда! Страна, в коей не уряжено твердого престолонаследия, не может уцелеть за пределами одного, много — двух поколений! Неужели ему, византийцу, сие не понятно?! На чем еще держится его уверенность? На благосклонности Филофея Коккина? Но патриархи в Константинополе меняются с каждою сменою василевса, а власть нынешних василевсов определяют мусульманин-султан и католическая Генуя! О чем они мечтают? О каком соборном единстве православных государств?! Когда Алексий вот уже скоро двадцать летов пытается объединить под твердою властью никогда не распадавшееся вполне Владимирское великое княжение и еще не возмог сего достичь! На какой непрочной нити висят прегордые устроенья и замыслы сего болгарина! Господи! Просвети его, грешного! Да устроение единого общежительного монастыря важнее всего, что они замыслили там у себя вместе с патриархом Филофеем! Да ведь еще надобно выучить, воспитать способных к устроению сих обителей учеников! Он вспомнил вновь недавнее свое, в начале зимы сущее, видение слетевшихся райских птиц… Тогда он, одержимый беспокойством и тоскою по Федору (сыновцу, и верно, трудно приходилось в ту пору на Москве), особенно долго молился в одиночестве своей кельи… Да, чудо! Одно из тех, в которые патриарший посланец явно разучился верить! Да, труд всей жизни надобен для того только, дабы вырастить малую горсть верных, способных не угасить, но пронести светочи далее, разгоняя тем светом мрак грешного бытия… Ведь оттуда, из греков, пришло к ним благое слово Учителя! Ведь и ныне не угас огнь православия в греческой земле! И вот он сидит перед ним в келье, муж, украшенный ученостию, искушенный в писании и не понимающий ровно ничего! Ни того, что замыслил сам, ни того, на что надеется…