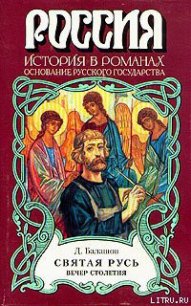Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
— Чего ето он? — окликнула баба от калитки. Слуга, отирая взмокший лоб, посетовал:
— Да вот, приезжие мы, путники, изнемогли совсем!
— А зайдите, зайдите молочка испить! — живо откликнулась баба.
Грек, пригнувшись и едва не разбив лоб о притолоку, пролез в жило. Оглянул любопытно двухцветную — янтарно-желтую понизу и черную поверху от приставшей сажи — горницу, присел, оглядываясь, за стол у маленького, в полбревна, прорубленного окошка. Дождав, когда пенистая белая влага наполнила берестяные кружки, поднял свою, осторожно выпил и тотчас стал рассматривать прихотливый берестяной узор, видно вырезанный тоненьким ножичком и наложенный в несколько слоев вокруг сосуда. Хозяйка отрезала кусок хлеба, налила еще молока, пожалилась на жарынь:
— Опять ни капли дождя! Верно, и сенов и хлеба не станет! — Вопросила, верно ли, что в Орде мор. Воздохнула всею грудью, примолвила обреченно: — В скорости и до нас дойдет!
— И кони мрут? — вопросила заботно опять.
— И кони! — ответил слуга.
— И коровы?
— И коровы тоже!
— Коровушек-то жалко! — горестно покачала головою хозяйка. — Опять липову кору толочь! — И тут же, заметив, что у гостей опорожнены сосуды, налила еще молока из глиняной, грубо украшенной зеленою и белою поливою кринки.
— Пейте, пейте, с дороги, дак!
Когда грек предложил ей плату, баба даже руками замахала испуганно.
— Што ты, што ты, батюшко! Век того не бирывала! Путника не напоить, с гостя плату взять — грех непростимой! — И уже на походе, когда путники выбирались из жилья, ополоснув, сунула слуге в руку берестяной узорный туесок-кружку. — Передай хозяину своему, любовал, дак!
Таково было первое знакомство Феофана Грека с Русью. И, сама не подозревая о том, безвестная нижегородская баба эта больше сделала, чем последующие сановитые хозяева, князья и епископы, принимавшие византийского мастера, для того, чтобы изограф, приехавший только лишь выполнить несколько работ по заказу местных володетелей, похотел затем остаться в этой стране навсегда, сделав Московию своею второю родиной.
Грек-изограф продолжал идти, как он и шел допрежь, рассматривая все по сторонам, что находил достойным внимания, и откладывая в памяти своей. В улицах стояла пыль, было жарко. До двора епископа они добрались только к полудню. Чудного, с голыми икрами, путника остановили в воротах, но потом вышел старший придверник и, услышав греческую речь, провел гостя в покои епископа. Греку со спутником предложили омыть руки и проводили в трапезную, не разделяя господина от раба, как полагалось бы в Кафе, Константинополе или Галате. Впрочем, обычаи тут устанавливал сам Дионисий.
Епископ принял изографа ввечеру. Греческий язык он знал превосходно, грамоты, привезенные Феофаном, лишь проглядел, больше присматриваясь к самому мастеру. Изограф, в свою очередь, сразу же оценил жгучий взгляд и решительность лица русича, его краткую, полную сдержанной силы речь, в коей он немногими строгими красками набросал нынешнее состояние страны, раздираемой сварами князей и угнетаемой агарянами, «рекомыми половцами или татарами», — как несколько витиевато изобразил Дионисий ханов Орды и их кочевое войско.
— Горестное угнетение православных! Скорбь, и нужа, и гнев Господень, сведомый на ны! Ныне паки в стране иссохли нивы, близит глад и мор на люди и на рогатый скот такожде! И беда та опять же надвигается на нас от безбожных куманов! Людин, зашедший во храм, возведя очи горе, должен узреть не покой, но боренье духовное! Должен постигать телесными очами то, о чем речет Григорий Палама: яко смертный муж в борении постигает бессмертную энергию горняго света!
Феофан склонил голову. Далее они оба целиком перешли на греческую речь, и уже епископ, прерываясь, начинал внимать Феофану.
— Не был в Галате, не зрел! — произнес Дионисий наконец, оканчивая беседу и вставая. — Но егда возможешь изобразить красками то, о чем ныне глаголал, тебе, и паки тебе поручит князь Дмитрий Костянтиныч, по слову моему, подписывать созданный им два лета назад храм Николая Святого!
В ближайшие дни греческий мастер получил келью, корм и несколько русских подмастерьев. Он тут же поручил им готовить доски для пророческого ряда нового храма, а сам взялся писать «Деисус» в полтора человеческих роста, почему уже к концу второй недели от любопытствующих приходилось очищать мастерскую.
Работал Феофан яростно. Когда возник на доске писанный в полный рост Иоанн Предтеча, сам князь явился к художнику вместе с епископом и боярами и долго рассматривал то образ, полный какой-то неслыханной доселе силы и рдеющего, словно бы изнутри пробивающегося наружу, огня, то всклокоченного, с голыми жилистыми руками, в одном хитоне, перемазанном красками, мастера, который писал прямо по подготовленной доске, без перевода и оттиска, не заглядывая ни в какие подлинники. Дмитрий Константиныч живопись любил, понимал в ней и, справившись с первым ощущением необычно тревожного, что и привлекало и отвращало в письме грека, в конце концов одобрительно склонил голову и, пошептавшись с епископом, осторожно покинул покой. Дионисий взошел полчаса спустя, удоволенно сияя, повестив, что храм Николы князь поручает расписывать Феофану и просит его руководить изографами-русичами, которых всех передает под его начало.
Феофан, у которого после бурных приступов вдохновения наступало опустошение (сейчас подошел именно такой час), токмо помавал главою, измученно поглядев на епископа. Но Дионисий, сжившийся с изографом, которого за протекшие дни выучился понимать вполне, не оскорбился тем нимало и, выйдя из покоя, приказал эконому озаботить себя доставкою твореной извести из Суздаля, где она доспевала в ямах, устроенных еще рачением покойного Костянтина Василича, когда он только-только задумывал перебираться в Нижний, и собирать мастеров.
ГЛАВА 65
В один из дней Феофан, идучи на работу в собор, был остановлен толпами горожан, запрудивших улицы. Раздавались крики, возгласы, вопли.
— Ушкуйники? — вопросил он, ибо на днях слышал про северных новгородских разбойников, пограбивших Вятку, Булгар и всю Ветлугу. Поскольку ему сказывали и о давешнем набеге охочих молодцов на Нижний, то художник вообразил, что прошедшие Волгой грабители ворвались в город.
— Ушкуйники?! — спрашивал он, вертя головою, зажатый в мятущейся толпе.
— Татары! — ответили ему.
В самом деле, по улице ехали на конях косматые степные всадники. На набег это, впрочем, было непохоже. Степняки не обнажали оружия, разве изредка, взмахнувши плетью, отшибали с дороги зарвавшихся смердов.
Почти не понимая русской речи, он ухватывал происходящее больше глазами и ухом, ловя музыку ропота, то жалобного, то грозно-негодующего. Ежели татары свои, почему такие крики и шум? Татар было много, очень много, и когда они прошли, Феофан с трудом пробился на епископский двор.
Слуга, Васко, как он сам себя называл, изъяснил, наконец, Феофану, что происходит в городе. Оказывается, явились Мамаевы послы с дружиною, и дружина в тысячу или того более душ. Требуют подарков, кормов, начинают грабить, уже разорили торг, с горожанок срывают головные уборы и украшения, выдирая серьги из ушей. Словом, все так, как бывало когда-то, при хане Узбеке. Словно вернулись прежние времена, словно не было сокращения дани и ослабы от татарских баскаков и послов.
В этот день ему не работалось. Да и две трети подмастерьев пропадало в улицах. Город шумел, не затихая, даже и в ночь. В иссохших проулках столбами стояла пыль. Горожане боялись пожаров, и это увеличивало сумятицу. Феофан в конце концов бросил кисть и, кликнув холопа, вышел на площадь. Откуда-то несло дымом и запахом подгорелого мяса, глухо гомонили ордынцы, город шумел, там и тут перебегали какие-то тени.
Он ожидал узреть то же, что в Константинополе: растерянную чернь, ратников, древками копий расчищающих дорогу, — но тут было нечто иное, неведомое ему и грозное. Навстречу молча валила толпа оборуженных топорами, вилами, рогатинами и дрекольем мужиков. Передовой яростно выкрикивал что-то.