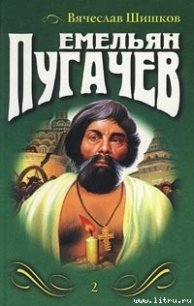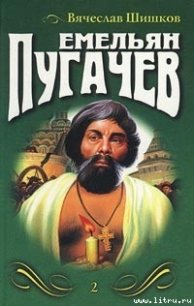Емельян Пугачев. Книга 1 - Шишков Вячеслав Яковлевич (прочитать книгу .txt) 📗
— Христос воскрес, братцы! Христос воскрес! — Бороды их тряслись, по втянутым щекам — ручьями слезы.
Но порыв ликования быстро схлынул, на душе вновь горько и черно, пожалуй, тяжелей, чем прежде. Два седобородых деда, Данило Чернавин да Прохор Гусаков, бессильно упав на землю, бились головами в стены, в отчаянии рвали на себе волосы и, мешая рыдания с хриплым кашлем, жутко вопили:
— Христос воскрес, это верно. А мы?.. Мы-то когда же воскреснем?
Братцы, родненькие наши, все мы сгнием здесь…
Бросились утешать их, но и сами утешающие плакали навзрыд, и не было слов, и нечего было сказать, нечем помочь беде.
Подступил к окну часовой с ружьем, глянул в погреб:
— Эй вы! Дураки такие. Ну, чего воете-то? Мужичье карактерное. Тьфу!
Он отошел, пофыркал носом, морщинистое простодушное лицо вскоробилось жалостью, опять приступил к окну:
— Эй, Степанов, Вавилов, Злобин, хотите покурить? Нате вам, Христос воскрес… Эх, вы-ы-ы, сиволапые… Нате по яичку, разговейтесь.
Фонарь скудно мерцал. Благовест кончился. Перелаивались по городу псы. Где-то пропел петух-полунощник. Караульный на улице с ожесточением бил в трещотку. Тяжело прогремел железом по камню тарантас купца.
Проходил первый день пасхи. Старик Данило Чернавин занедужился вконец. У него все ныло и ломило: отбитые внутренности, исхлестанная плетками спина… Он кряхтел и охал, жаловался, что «внутрях палит», пил ледяную воду. Его положили на солому в уголок, тепло укутали. А как ударили по городу к торжественной вечерне, стал он удушливо хрипеть.
Закованные в цепи крестьяне и приказчик Герасим Степанов окружили его, не ведали, чем умирающему пособить.
В это время жирный француз де Вальс и полубезносый французишка Бодеин были приглашены воеводой, генерал-майором Поздняковым, к пасхальному столу, вместе с многими почетными гостями до тошноты обжирались вкусными яствами, запивали французской водкой, бургундским, английским портером, бишофом, вели веселые разговоры, хохотали во все горло, пускали из трубок ароматный дым: «ха-ха, хи-хи», — им море по колено…
…Герасим, да и прочие, что на ногах, стали чрез оконце умолять солдат:
— Служивые! Человек у нас мается смертно, Данило-дед. Бегите, служивые, скореича наверх, в господские покои, надобно какие-нито способа принять.
Явился пьяный кудряш-цирюльник, большеносый, черный, как цыган, и грязный. Он отворил кровь старику, перетянул ему руку выше надреза бечевкой. Крови в глиняную чашку вытекло много, цирюльник выплеснул ее на побуревший снег, над снегом тепленький парок пошел. Старик сначала затих, потом стал метаться и стонать, слабым голосом звал Дуньку-большую, Дуньку-маленькую, Оленку — внучат своих — звал попа, чтоб причастил.
— Умираю, братцы, — шептал он. — Истоптали меня всего. Хранчюз приказал… Бог ему судья… — Он закрыл голубые тоскующие глаза, поежился. — Темно-о-о… Вздыху нет… На улку ба-а… — и, как рыба на песке, стал ловить ртом воздух.
С большой опаской, бережно подтащили его к окну, он захрипел, началась предсмертная икота, разинул рот с белыми зубами, вздрогнул и скончался.
Загремели железища, все опустились на колени.
Вошли с рогожными носилками четверо пожилых солдат. Лица их сумрачны.
Переговариваясь взволнованным шепотом, осторожно переложили мертвеца на носилки, поплевали себе на руки, неспешно понесли. Узники, трясущимися голосами и глотая слезы, затянули похоронное: «Святый боже». Морщинистое умное лицо мертвеца сделалось белым, сдвинутые брови распрямились, легли спокойно. Данило стал свят лицом и чист. Солдаты вынесли тело на волю, дверь могилы снова захлопнулась, щелкнули замки. На воле свежо, отрадно.
Герасиму показалось, что мертвец Данило как бы силился взглянуть в последний раз на заходящее солнышко, но глаза его незрячи. Веселая стайка воробьев на заборе встретила Данилу дружным щебетом: «Карачун мужичку, чирк-пере-чирк…» Две вороны терзали оттаявшую кошку с веревкой на шее, горласто дрались.
…А в этот самый миг камергер двора граф Сергей Павлович Ягужинский беспечально пребывал во дворце блистательной Екатерины Алексеевны, императрицы всероссийской. Располневшая царица-государыня, рачительная мать народа своего, разодетая в пух и прах в драгоценное злато и каменья, изволила собираться с блестящей свитой своей в придворный, ее величества, эрмитажный театр на смотрение французской пьесы с танцами и переодеваньем.
…Меж тем де Вальс замыслил новое надругательство: пришел кудряш-цирюльник, наголо остриг всем по-каторжному волосы. Насильно обезображенные крестьяне, особливо старики, были неутешны, плакали.
Вскорости Герасима отвели из подвала в верхние покои к де Вальсу.
Герасим приметил некую во французе растерянность.
— Ты графский человек, посему я тебя к нему и отправлю, — сказал де Вальс. — Что граф изволит, то с тобой и учинит.
Вечером он был препоручен отставному сержанту Воинову да конюху Якову и увезен в Питер.
Графский дом в столице встретил Герасима немилостиво: под сугубым караулом, скованный, он просидел без всякого спросу и резолюции еще девятнадцать суток. Видно, графу не до него. На двадцатый день его впервые расковали.
В халате с золотыми кистями, без парика, пожилой, черноглазый, с горбатым носом, граф Ягужинский в малой столовой кофе пил. Пред ним в согбенной позе, изнуренный, безобразный и, как преступник, остриженный стоял Герасим Артамонович Степанов. Граф прекрасно знал своего бывшего управляющего, всегда дорожил им, возвышал его. А вот сейчас, нимало не удивившись видом Герасима, взглянул на него с обидным равнодушием.
— Слушай, Герасим! А скажи мне, голубчик, вот что… — начал он изнеженным, с пришепетом, голосом. И стал выспрашивать о земледелии, каким способом размножить посев льна, как лучше удобрить землю, и о прочем. О самом же Герасиме, о замученных де Вальсом мужиках будто ему и дела нет.
Ведь знает же граф обо всем этом и — молчит. Тогда где же закон, куда делась правда, у кого мужик должен искать защищение себе? «Граф видит поруганный зрак мой и плачевное состояние мое, — раздумывал Герасим, — и хоть бы слово молвил в мое облегчение, а обидчику французу — в укор». Сам же заговорить об этом он не посмел: пред ним его владыка, сиятельнейший граф, а он — мужик, раб, даже не человек: он вещь.