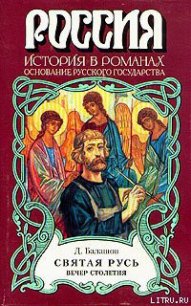Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
— Кабы год как год, а то моровая напасть, засуха, кони дохнут! С каких животов?!
— Как таковая пакость могла произойти? — вопросил осторожный Афинеев суздальского князя. Дмитрий Костянтиныч глянул надменно, но и великий князь Дмитрий тоже перевел взгляд на тестя, следовало отвечать. Голенастый сухой суздальский князь гневно дернулся:
— Денис! — высказал единым словом главное. — Смерды, вестимо… Голод, грабежи… А тут в соборе: «доколе», мол! — князь сердито отводит взгляд.
— Где посол? — вопросил, в очередь, Иван Мороз.
— Сарайка? Сидит с дружиною на воеводском дворе! — устало отзывается князь. — Я приставил охрану и корм выдаю.
— Сколько их? — поинтересовался Александр Всеволож.
— Да сотни… две наберется, ежели всех сосчитать! — неуверенно протянул Дмитрий Костянтиныч.
— А было?
— Полторы тысячи!
Бояре молча переглядываются. Кое-кто полез в затылок пятернею. Нижегородские смерды славно-таки поработали!
— А почто и вел эстолько! — высоким голосом возражает Григорий Пушка.
— Узбековы времена похотел воротить! Ну, разорили бы несколько городов, народу побили! Того хотите, бояре?!
Ему не отвечают. Только Данило Феофаныч, в очередь, утирая красным тафтяным платом взопревший лоб, произносит спокойно:
— Такого Мамай не простит!
— Да и так-то… — поддержал Данилу Дмитрий Зернов. — Послов ить побили! Нехорошо! Не по закону таковое творить!
— Смерды… — отозвался устало Дмитрий Костянтиныч. — Не сдержать было!
— Тамо таковое дело, — вновь заговорил Кошка. — В Хорезме сейчас подымает голову Тимур, сильнее его нынче никого нету; в Белой Орде Урус-хан, тоже воевода суровый. И тот и другой без нашей помочи живо Мамаю хребет переломят! И так уж все волжские грады истерял! Сидит на Дону, на вчерашних половецких кочевьях, от кафинской торговли да от нас токмо серебро и емлет. А все новым Батыем себя мнит! Требует даней, как при Чанибеке-царе, а на поди! А того в толк не берет, сколь ему уже за ярлык заплочено! Не поддержал бы Михайлу, не вверг нож в ны, дак и дань мочно бы дать по-старому!
Мужающий князь на престоле тут разлепил губы, сказал заносчиво (хотел спокойно и твердо, но не получилось).
— Прежней дани ему от нас не видать! Придет на Русь — встретим с оружием!
Бояре, многие, скоса глянули на своего князя. Редко доселе размыкал уста, но владыки нет, и должен же князь когда-то начинать править?!
— С оружием… — протянул, покачавши головою, Матвей Бяконтов. — А где оно?
Окольничий, Тимофей Василич, сказал отрывисто:
— Рати не собраны! Надлежит помыслить путем! А токмо и уступать Мамаю не след!
— Не след, не след! — согласно закивали бояре. Князь Дмитрий обвел глазами хмурые боярские лица. Обижаться раздумал. Что бы он сам натворил, кабы еговую тысячу ратных ни за что ни про что истребили в степи?
— Кто там в Орде мутит?! — подал голос со своего места Иван Вельяминов. Дмитрий сумрачно глянул на него. Федор Кошка поднял голову, подумал, отмолвил кратко, единым речением:
— Фряги!
— Ентим чего надобно? — недовольно вопросил князь.
— К нашему северу руки тянут! — пояснил Кошка. — Меховой торг мыслят в свои руки забрать!
— Ежели пустить их… — произнес кто-то на дальней скамье.
— Пущай до того завоюют Москву! — взрывается Иван. — У нас един фрязин печорскую дань емлет, дак и то в скорости всю Печору до зубов обдерет! Пустим — станет Сурожский стан Галатою, а мы — обобранным Цареградом! Все серебро мимо нас прямиком в Кафу поплывет, а оттоле — в Геную! Я как тысяцкий первым не позволю того!
Грамоту злополучного фрязина Андрея подписывал князь Дмитрий. Не стоило б Ивану о том поминать! Князь глядит на него не мигая, потом закусывает губу и отворачивает пошедшее пятнами лицо. Федор глянул на князя и, сожалительно, на Ивана Вельяминова. Коли власть, дак уж власть! Неча тебе было, Иван, называть себя тысяцким при живом батьке, хоть ты и сотню раз прав! — подумалось ему.
— Меховой торг будет у нас, на Москве! — медленно произносит Дмитрий, справясь со своею яростью. Иван Вельяминов в этом случае был, разумеется, прав, и не стоило ему так уж гневать на него за смелое слово. Хоть и не тысяцкой он вовсе, а токмо сын при отце!
— Ну дак и што, пойдет походом на нас Мамай? — уточняет Иван Мороз, сжимая кулаки и плотнее усаживаясь на лавке.
— Покудова не пойдет! Силы нет! У них в степи тоже мор на скотину! — возражает Кошка. — А только дурак, дурак! Власти хочет, а друзей не видит своих! Фряги его и обведут, и выведут, а сказать — некак!
Общий вздох проходит по палате. Раз не возмог Кошка, кто иной возможет уговорить Мамая не наломать дров?
— Черкес, баешь, выбил его из Сарая? — вопросил опять Афинеев.
— Черкес! Мамаю прямая выгода при етой напасти держаться Москвы! Нам бы дал леготу, и свою голову, гляди, уберег!
— Дак станет ратиться?! — твердо вопрошает Иван Мороз.
— Когда-нито да станет! — ответствует Кошка, вздыхая.
— А побьем?!
Федор усмехнул, подумал, прищурил взгляд, будто поглядел куда-то туда, за леса, за реки, в далекую половецкую степь. Отозвался, помедлив:
— Быват, и побьем! Коли Ольгерд с Михайлой тою порой в спину нам не ударят!
И новая волна прошла по рядам преющих в духоте бояр московских, коснувшись и самого князя Дмитрия. Тверь оставалась главною зазнобой, и пока Михайло не согласил с грамотою, передающей великое княжение в руки Москве, все еще могло совершить во Владимирской Руси!
ГЛАВА 68
Все это тяжкое лето, когда на Руси и в Орде свирепствовал скотий мор и не выпало ни капли дождя, Василий Васильич Вельяминов пролежал в болезни. Ему становилось все хуже, временами отказывала память. Он то начинал неразборчиво говорить с кем-нибудь из отсутствующих или умерших, то упорно звал на очи старшего сына. Дело шло к концу. С началом сентября, когда пошли запоздалые дожди, небо заволокло облачной пеленою и свинцовые тени наползли на измученные леса и обмелевшие речные излуки, воздух посвежел, обрадованно залопотали жестяные листья осин, а березы начали горестно гнуться и роптать, жалуясь ветру на поздний его приход, тысяцкому стало совсем плохо. Со дня на день ждали смерти.
Семья великого князя с начала августа прочно перебралась в Переяславль. Дуня была на сносях, а в Переяславле, под защитою леса и на берегу обширного озера, все-таки легче дышалось, чем в раскаленной Москве, затянутой дымом горящих торфяных болот.
Дмитрий, заслышав, что старый тысяцкий очень плох, сам, верхом, прискакал на Москву. Пересаживаясь на подставах с коня на конь, он проделал весь путь от Переяславля за один день. Марья Михайловна, иссохшая, скорбная, молча встала и, отдавши поклон князю, вышла из покоя.
Василий Василич лежал бессильный, и его большое тело казалось ненадобным и даже оскорбительно-лишним перед величием смерти. Дряблая плоть рождала скорбную мысль о разложении, о телесной, жестокой гибели, напоминающей гибель скошенной моровым поветрием скотины, раздутые тела которой торопились зарыть, дабы не распространять заразы. Дмитрий невольно содрогнулся. Это был уже не его дядя, суровый наставник в трудах воинских, некогда заменивший ему отца. В этом разлатом, потерявшем усилие воли лице, в этих жалко приоткрытых губах, в тяжелом, со свистом и хрипами, дыхании, в клокастой, спутанной бороде, краснине набрякших век, мутности взора — во всем этом так мало оставалось от того, прежнего, Василь Василича, что князя охватило темным, нерассудливым ужасом: бежать! Но вот лицо умирающего дрогнуло, взгляд стал осмысленнее, и бледный окрас улыбки коснулся искаженных губ.
— Не узнаешь, княже? — хрипло и медленно вопросил умирающий. — Прежнего меня, говорю, не узнаешь?
Дмитрию стало стыдно себя, и он, опустивши голову, закусил губу. В нем самом еще столько было жизни, что иначе, чем сторонний, пугающий ужас, смерти он не воспринимал.
— Сына тебе оставляю, не обидь! — тихо выговорил Василий. Князь не ответил ему. Помешал комок, подступивший к горлу. В этот миг он, наверно, простил бы Ивану Вельяминову все его истинные и вымышленные грехи.