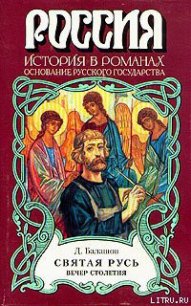Отречение - Балашов Дмитрий Михайлович (версия книг .TXT) 📗
Волнуется толпа разряженных гостей. Сухой высокий Дмитрий Костянтиныч ублаготворен почетом. Он в первых рядах, он — старший среди князей, собравшихся на это не совсем семейное торжество. Ради него княжеская семья стеснилась в своих хоромах. Он приехал с братьями. Потишевший Борис предпочитает не ссориться с великим князем московским Дмитрием. В последней войне он обманул надежды Михайлы с Ольгердом. Младший сын Дмитрия Костянтиныча Семен тоже здесь. Нету только Василия Кирдяпы, с которым еще предстоит московскому князю долгая и мучительная пря. Нет, не все решено и уряжено даже с семейством князей суздальских, хоть и родичи они московского дома, а все-таки…
Гул, ропот, боярыни и бояре теснятся глянуть на княжеского сына. Город переполнен. Князья со свитами заняли все пригородные монастыри, набиты битком все мало-мальски пристойные городские хоромы. Поглядеть на такое собрание нарочитых мужей сбежался народ аж из Клещина и из Весок. В улицах, прямо на растоптанном копытами, залитом конской мочою снегу, торгуют рыбой, грибами, горячим сбитнем, медовухою, калачами, даже студнем, невзирая на Филипьев пост. Посадские жонки, поджимая губы, оценивают наряды наезжих боярынь, замечая всякую малейшую неисправу в дорогих уборах и узорочье. Сами вытащили лучшее свое, береженое. Не в редкость увидеть на иной бабе какие-нибудь колты работы владимирских мастеров позапрошлого столетия или парчовый коротель, крытый византийским аксамитом времен Комнинов. Этот ли город осаждала Литва? Тут ли летось умирали с голоду и со слезами зарывали в землю погибающую скотину?
Богатую страну трудно разорить враз. Погибло добро, сгорели хоромы, подохла скотина, убит или уведен хозяин дома. Есть лес и река, а значит, дичь и рыба (река не отравлена, и лес не вырублен — на дворе еще XIV век!). Есть рабочие навыки, есть умение. Руки берутся за топоры — вырастают новые, только что срубленные избы. Из лесных, не тронутых мором деревень приводят скотину, у ордынских купцов покупают, вырывши из земли береженую гривну серебра, пару новых коней. Сироты находят родных, сябров, свойственников, соседей; калеки, убогие — странноприимный, выстроенный князем, дом. Монахи и сельские знахари лечат больных, лечат толково, вправляют переломы и вывихи, прикладывают целебные травы, поят отварами — все с присловьем, с наговором или молитвою, так крепче: у болящего, как и у лекаря, должна быть вера в успех лечения, и она помогает не меньше трав.
И вот наступает осень. Собрано все, что можно было собрать: ягоды, рыба, грибы, полть медвежьей туши — свояк завалил по осени в малинниках; у ордынских купцов куплена соль, можно прожить до весны! И жонка достает из скрыни береженый прабабкин саян, шелковую рубаху с парчовыми оплечьями, с вышитою прехитрым узором грудью — бояре наехали, из Москвы, из Владимира, Ярославля, из Нижнего самого! Князья! Надобно и себя не уронить!
— Ты-ко, хозяин, тоже ентую рвань не одевай! Красных овчин зипун есь! Сама тебе его шерстями вышивала, то и одень! Неча беречь! На погост все одно с собою не унесем!
У дочери сверху шубейки, крытой лунским сукном, рудо-желтый узорной тафты плат. Сын в новой белой рубахе. Под расстегнутым курчавым зипуном — вышитая алым шелком грудь. Кудри по плечам, рожа аж светится, шапка заломлена на затылок. (А ничего сын! Плотничал ноне с батькой, Бога-то не гневим!) Семья. На улице степенно раскланиваются со «своим» боярином. Людей не хуже! И так — весь Переяславль. Красные и узорные, шерстяные и шелковые, тканые и плетеные кушаки, зипуны, вышитые по подолу, груди и нарукавьям цветными шерстями, круглые, тоже цветные, у кого и бархатом крытые шапки, лапти, плетенные в два цвета, чистые онучи, на иных посадских и сапоги. Коли сани, то непременно с резным задком, коли дуга, так крашеная, с наведенными вапою змеями, берегинями или львами в плетеном узоре. Сбруя — в медном, начищенном до блеска наборе, рукавицы у ямщика за широким поясом — каждая, как сказочный цветок.
На Красной площади, перед теремами, — не протолкнуться. Тут — знать, тут уже иноземные шелка и сукна. Ежели меха, то непременно соболь, куница, бобер, или невесомая, из ласочьих шкурок, под китайским шелком шубейка на иной боярышне, или соболиный опашень с золотою оплечною цепью на князе (князь беден, опашень единственный и цепь, от прадеда доставшаяся, чудом уцелевшая, всего одна, но тут — вздета на плеча, не ударить лицом в грязь перед прочими!).
В теремах тоже яблоку негде упасть, снуют слуги. В хоромах великой княгини вокруг счастливой матери с дитятею целое столпотворение вавилонское. Ищут Дмитрия: куда-то запропастился великий князь, а скоро и выходить за столы!
И только там, в задней, на самом верху, с окошками на безбрежную даль озера, тишина. Укромную дверь покоя стерегут преданные холопы. Дмитрий ходит взволнованно по горнице, под тяжелыми шагами поскрипывают половицы. Старый митрополит сидит в кресле. Они одни. Нет, не изменил молодой великий князь своему наставнику! И Митяя здесь, слава Богу, нету, и нету бояр-наушников.
— Я не могу с ним! — кричит, срываясь, Дмитрий. — Дядя мне был в отца место! А Ивана половина бояр не хочет видеть своим тысяцким!
— Винят в гордости? — спрашивает Алексий.
— Хотя бы и так!
— Кем же ты мыслишь заменить Ивана Вельяминова?
Дмитрий останавливает с разбегу, будто бы налетев на забор.
— Мыслишь, владыко, будет то же самое, что и с Алексеем Хвостом?
— Сын еговый не просит у тебя батьково место? — чуть насмешливо вопрошает нарочитою простонародною речью Алексий. Дмитрий, краснея пятнами, отчаянно вертит головой: «Нет, нет!» Да и никто из бояр не решится в особину взять власть под Вельяминовским родом. Но Ивана меж тем не хотят, действительно, многие. Весь клан Акинфичей против него. Коломенские бояре тоже не хотят Ивана. Ни Редегины, ни даже Зерновы, ни тем паче Афинеев или Окатьевичи. Неслыханно богат и неслыханную власть над растущим столичным городом держит в своих руках тысяцкий града Москвы. И старый митрополит молчит, думает. Взглядывает иногда на бегающего перед ним по горнице молодого князя… Власть великого князя московского, как замыслил ее он, Алексий, должна быть единой и нераздельной. Иначе не стоять земле. Опасно, ежели вельможа становится сильнее своего властителя! К худу или к добру нелюбовь Дмитрия к Ивану? От Алексия сейчас зависит решительное слово, и он, прикрывая глаза, думает. В самом деле, кому? Кому передать эту, становящуюся опасною, власть? Сколько раз вознесенные волею василевсов на вершину власти византийские временщики убивали своих благодетелей, сами становясь императорами? На Руси сего не может быть? Не должно быть! — поправил он себя строго. Предусмотреть надобно все. Даже и то, что иной на месте Вельяминовых восхощет (может восхотеть!) той же нераздельной власти над князем своим… У Ольгерда есть возлюбленник, Войдило. Уже сейчас можно догадать, что, пережив господина, этот холоп попытается так или иначе захватить власть в литовской земле. На Руси таковое невозможно? Не должно быть возможным!
— Чего же и кого хочешь ты? — вопрошает Алексий. Дмитрий останавливает свой беспокойный бег по палате молчит, бледнеет, поднимает глаза на духовного отца своего, говорит, словно бросаясь в воду или в сражение:
— Я не хочу никого!
Алексий глядит, думает. Устал ли он? Или постарел? Или, наконец, этот мальчик становится мужем? Единственно правильным решением может быть именно это, подсказанное Дмитрию нерассудливой детскою ревностью к Ивану (как-никак по родству двоюродному брату великого князя!).
— Ты хочешь отменить должность тысяцкого на Москве? — после долгого молчания вопрошает Алексий. И Дмитрий, сам пугаясь того, что было смутно у него в душе и что так ясно высказал сейчас Алексий, отвечает сперва неуверенно, а потом с яростною силой:
— Да… Да!!!
— Надобно повестить об этом синклиту и выборным на Москве! — строго и наставительно заключает Алексий. — Дабы передать дела купеческие и посадские по первости княжому дьяку, назначить своих мытников и вирников, а дружину тысяцкого подчинить твоим служилым боярам, дабы никто не пострадал и не разрушилось дело управления городом!