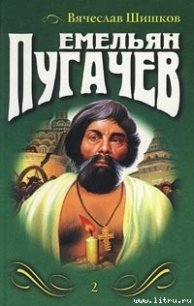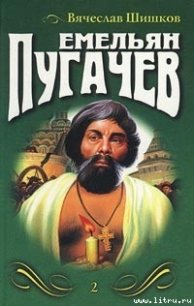Емельян Пугачев. Книга 1 - Шишков Вячеслав Яковлевич (прочитать книгу .txt) 📗
— Сколько голышей? — спросил офицер и взял в рот какую-то целебную жвачку.
— Восьмеро, с девятого только сапоги сняты.
— Скоты, ворье… Расстреливать на месте надо, — буркнул офицер и добавил:
— Можно, ребята, к яме везти, закапывать.
— А вот маленько отдохнем, ваше благородие, дюже уставши. Покурим вот. С вечера не куривши.
Они стащили маски и рукавицы, стали закуривать от фонаря.
— А ты чего не куришь? — спросил мясника сухощекий бородатый погонщик. — Курить — от чумы пользительно, толкуют.
— Я чумы не больно-то боюсь. Меня и без табаку не возьмет. Глянь, какой я икряный… — сказал мясник, поглаживая толстое брюхо.
— Икряный? — ухмыльнулся бородач. — Мы таких, как ты, икряных-то, поди, тысяч с двадцать закопали…
— Двадцать ты-ы-сяч?! — изумленно протянул мясник и перекрестился, страх напал. — Ваше благородие, да неужто эстолько народу мрет?
Не ответив, офицер скомандовал: «Поехали!» и вскочил в седло.
Мясника кидало в сон. Он вновь прилег между могил и укрылся с головой. Скрип телеги смолк за поворотом. Где-то вдали, нарушая тишину, прозвучал набат, протряслись два бегучих голоса: «Пожар, пожар за Москвой-рекой!» Но Хряпова набат не напугал, его напугало другое.
Едва он успел забыться, как слышит сквозь сон, будто землю возле него роют и швыряют лопатами и какие-то люди шепчутся, что-то волокут, кряхтя, что-то поставили на землю, вот завсхлипывала, застонала женщина, и вслед за тем мужской сдавленный голос: «Маменька, вы погубите нас… Да молчите же!»
Хряпов с трудом открыл глаза и приподнялся на локте. Шагах в двадцати от него сквозь мрачную ночь маячили два ручных фонаря, один на земле, возле ямы, которую торопливо рыли двое, другой — в руке человека. Фонарь бросал свет на согбенную старуху, одетую в черное: из-под траурного, повязанного по-старушечьи платка глядело сухонькое треугольное лицо с вытаращенными, испуганными глазами.
— Смиритесь, маменька, не убивайтесь. Ау, папеньку не воротишь, воля божья на то, ау, — утешал старуху сын ее, поглаживая мать по трясущейся голове.
— Господи… Без панихиды, как собаку… Ой, Пров Михайлыч, Пров Михайлыч, жела-а-нный! — И слезы текли, и сморкалась она, и горько, болезненно постанывала.
По ту сторону свежей могилы серел некрашеный гроб.
— Скоро ли, молодцы? — тихо спросил сын и подошел к краю могилы.
— Можно спущать, Пантелей Прович, — выпрямился бородатый приказчик, воткнул лопату в землю и вытер пот с лица.
— Давай, с богом, — сказал сын.
Хряпов поднялся, подошел ближе и спрятался за березой.
Гроб опустили на веревках в яму, стали быстро забрасывать землей.
Старуха громко завыла, затряслась, поползла на карачках к могиле.
— Маменька! Замолчите! — зашипел сын. — Нищим, что ли, хотите сделать меня? Ведь ежели дознаются, что покойник у нас, все имущество наше в костер пойдет. И пошто вы притащились сюда, этакая хворая?
Вдруг старуха перекинулась на бок, судорожно скорчилась, впилась руками в землю, ее подбросило, она захрипела и вскоре смолкла.
Сын суетливо, на коленях, припал над ней, осветил потемневшее лицо фонарем, и точно какая сила опрокинула его на спину, вот он вскочил и бросился вон из церковной ограды, то взмахивая фонарем, как кадилом, то в отчаянье хватаясь за голову и оглашая ночь сумасшедшими выкриками:
— Маменька, тятенька… Господи! И за что такое наказание посылаешь мне?
Спину Хряпова опахнуло морозом, он задрожал и, пошатываясь и натыкаясь на могилы, поплелся к своему логову.
— Тут очумеешь, придется утекать, — бормотал он.
Старый приказчик сказал молодому:
— Дом наш чумной, Иван. Ведь и хозяйка зачумела. Оставаться в нем пагубно. Давай-ка, соколик, бежать отсель, пока чума не забрала.
— Да куда бежать-то, Митрий Федорыч?
— Куда все бегут… Знамо куда… в деревню. Господишки давным-давно все разъехались. А мы что? Да мы хуже господишек, что ли? Бросай, Иван, лопаты, все бросай, поедем.
— Митрий Федорыч! Ежели старуха мертвая, давай обснимаем серьги. Все равно ее ограбят, дак лучше мы, по знакомству, вроде как за старанье за наше.
— Брось, брось, Иван… — опасливо озираясь на мертвую старуху и крестясь, сказал старший. — Это тебе сатана внушает. Не дело говоришь, дружок. И грех, и пагуба…
Хряпов перетащил подушку к самой церкви, к алтарю, и вновь прилег.
Пред утром его сборол крепчайший сон. Пробудился от грачиного грая в вершинах берез, громких раздражительных выкриков и гнусавого пения. Три слепца у соседней богатой, с мраморным надгробием, могилы тянули:
Он поднялся, прищурил отяжелевшие глаза и видит: толпа сотни в три окружила рыжебородого тощего священника, стоящего на гранитном крыльце.
Народ путанно кричал:
— Подымайте, православные, иконы да кресты! Никого не слушайте…
Никола-чудотворец оборонит нас… Не слушайте докторей! Они вам наскажут.
Это никакая не чума — это гнилая горячка зовется. Отец Осип, отпирай церковь!
— Не можно мне, братия и сестры. На крестные ходы запрещенье вышло, не велено нам.
— От кого запрещенье? От Амвросия? А мы его и слушать не хотим.
Отчего ж такое у Егорья можно, у Покрова можно, у Всех святых, что на Кулишках, можно, а у нас нельзя?.. По всей Москве крестные ходы ходят… Отпирай!..
— Вчерашний день консистория подписку с нас отобрала, православные…
Архиепископ наш Амвросий угрожает мерами лютыми. От сходбищ людских зараза, мол, проистекает.
— А наплевать нам на Амвросия! Что он, главней господа бога, что ли? Мы в ответе — отпирай!..
Вскоре большая толпа с хоругвями, крестами, иконами двинулась из церкви в обход своего участка. К толпе пристал и Хряпов. В разноголосицу надрывно пел народ: «Святителю отче Николае, моли бога о нас!» Священник кропил дорогу и дома святой водой. Трезвонили маленькие колокола. Утро было жаркое.
В толпе преобладали женщины, толпа настроена нервно, крикливо, в воспаленных глазах тупое отчаянье или покорность року, народ одет бедно: много лапотников, еще больше босых, калек, увечных… Со всех сторон сбегались прихожане, толпа росла. От лежащих под заборами или посреди дороги мертвецов народ шарахался в стороны, иные отплевывались, но большинство в страхе и с малодушным трепетом осеняло себя крестом.