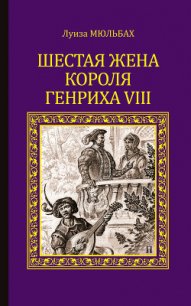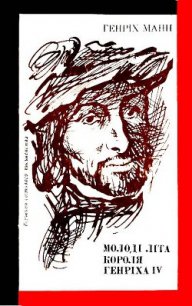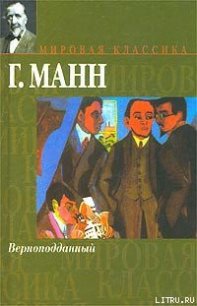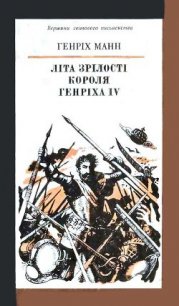Зрелые годы короля Генриха IV - Манн Генрих (электронная книга .txt) 📗
— Отныне, — так сказал король, обернувшись в глубь комнаты, — оружие, которое представляет собой эта печать, будет направлено господином канцлером не против меня, а против моих врагов.
Шеверни, хоть и видавший виды, тут онемел от изумления. В глубине комнаты слышен был шепот, ропот и, если верить ушам, звон оружия. То были протестанты, и недовольство их относилось не только к этой сцене: пребывание обеих дам в Иосафатском лагере не нравилось им. Их злило, что из-за дам, вместо завоевания важного пункта, Руана, зря тратится время на осаду Шартра. Они боялись еще больших бед от новой страсти короля, ибо на стойкость его в вере уже не надеялись.
Благополучно ускользнув из этой комнаты страхов, господин де Шеверни сперва никак не мог опомниться, но приятельница его де Сурди разъяснила ему, на чьей стороне сила в долине Иосафата. Во всяком случае, не на стороне пасторов. Однако оба сошлись на том, что Габриель должна держать у себя в услужении одних протестантов. Сама она тоже поняла, что это полезно. Впрочем, она преимущественно танцевала. Каждый вечер в Иосафате пировали и танцевали, то была весьма веселая осада. Когда все ложились спать, король, взяв сотню конных, отправлялся дозором. Ночь его была коротка, солнце заставало его за работой, а днем он охотился — и все оттого, что эта возлюбленная своим присутствием лишала его покоя, как ни одна до нее, и небывалым образом подхлестывала его силу и энергию. Тем более раздражало его, что осажденный город не желал покориться. Габриель д’Эстре, он знал отлично, послушалась практических советов, а не велений сердца, когда отдалась ему.
Генрих поклялся изменить это; у женщин бывают разные соображения, расчет не исключает у них чувства. «В сорок лет мы это знаем. В двадцать мы вряд ли польстились бы на возлюбленную, которая тащит за собой целый обоз непристроенных дворян. Никогда бы мы не поверили, что способны взять на себя труд явиться ей в целом ряде образов, от самого скромного до самого высокого — сперва старым низкорослым крестьянином, которому она говорит: до чего вы некрасивы; затем во всем королевском великолепии; затем солдатом, который повелевает, управляет и всегда бодрствует. Но под конец она должна увидеть победителя. Перед ним ни за что не устоит ее чувство, ибо женщины грезят о покорителях людей и городов и ради них готовы забыть любого молодого обер-шталмейстера. Тогда она станет моей, и исход борьбы будет решен».
Наконец Шартру пришлось сдаться, потому что королевские воины подкопались под самые его стены. Брали одно передовое укрепление за другим, а потом взяли замок и город; таким же образом взял Генрих и Габриель, которая, еще не любя его, уже делила с ним комнату в гостинице «Железный крест». Его упорство завоевало ему одно из передовых укреплений ее сердца, а когда он вошел в Шартр, у него были все основания полагать, что он проник и в твердыню ее души. То был ярчайший день, двадцатое апреля, то были гулкие колокола, вывешенные ковры, дети, которые усыпали весь путь цветами, духовенство, которое пело, то был мэр с ключом, а четверо советников держали синий бархатный балдахин над королем, и он, сидя в седле, созерцал свой город, едва завоеванный и уже восторженно встречавший его. Прекрасный день! Прекрасный день, и протекает он на глазах у любимейшей из всех женщин в его жизни!
Торжественный прием происходил в знаменитом, высокочтимом верующими соборе, а впереди толпы сияла возлюбленная со своей свитой, король являл ей свое величие и, поглядывая на нее искоса, убеждался, что она готова растаять перед этим величием. Какая-то тайная причина мешала ей, она покраснела, прикусила губу — да, усмешка выдала ее. Таким путем король, на беду, обнаружил, что позади нее в тени притаился кто-то: давно он не встречался с тем и даже не спрашивал о нем. Вон там прячется он. В первой вспышке гнева Генрих знаком призывает к себе всех своих протестантов, они прокладывают ему путь — он спешит к проповеди в дом, пользующийся дурной славой. Увы, это так — его пастору, чтобы молиться Богу, отведено помещение, где обычно выступают комедианты и бесчинствуют сводники и воры. Это место король предпочел обществу порядочных людей: поднялся такой ропот, что ему оставалось лишь покинуть Шартр.
Но сперва он помирился с возлюбленной, которая клялась ему, что собственные глаза обманули его, тот дворянин никак не мог находиться в церкви, иначе она бы знала об этом! Это был самый ее веский довод, Генриху очень хотелось счесть его убедительным, хотя нелепость его была очевидна. Где доказательство, что она действительно ничего не знала? Уж никак не в беспокойно блуждающем взгляде ее синих глаз, говорившем: берегись! И все-таки он согласился на примирение, именно потому, что не один владел ею до сих пор и хотел дальше бороться за нее.
Она отправилась назад в Кэвр, где он навещал ее и где господин д’Эстре заявил ему, что честь дома терпит один ущерб от такого положения. Оба выражались по-мужски.
— А как вы сами назвали свой дом? — спросил король.
— Непотребным вертепом, — проворчал честный малый. — Простые дворяне порочили его, не хватало только короля, теперь и он объявился.
— Кум, проще всего было бы вам сопровождать свою дочь в Шартр. Во-первых, вы могли бы следить за ней. Кроме того, вы были бы теперь тамошним губернатором. А вместо вас назначен господин де Сурди, но его все ненавидят по причине его уродства, и потом, он сразу показал себя хищным, — прямо не карп, а щука. Мне нужны честные люди, кум.
— Сир! Я всей душой стремлюсь служить королю, однако дом свой очищу от скверны!
— Давно пора, — сказал король, — и начать собираетесь с меня?
— Начать собираюсь с вас, — подтвердил господин д’Эстре, меж тем как лысина его покраснела.
Король ускакал, не повидав своей возлюбленной, а дорогой обдумывал предложение королевы Английской. От нее он может получить три-четыре тысячи солдат с содержанием за два месяца, и небольшой флот согласна она послать ему — только он должен всерьез заняться Руаном. Таково было ее требование, вполне понятное со стороны пожилой женщины, которая, кроме власти, не знает уже никаких других благ. Король пустил коня более быстрым аллюром, под конец перевел его даже на галоп, удивленные спутники отстали от него; он весь — движение, а в Англии неподвижно сидит старуха.
Елизавете теперь уже далеко за пятьдесят; радея единственно о своей власти, она казнила собственных фаворитов и с католиками у себя в стране поступала не лучше. Генрих же не пожертвовал ни одной женщиной, да и мужчин, хотевших убить его, он нередко миловал. Однако никакой Армады он не победил, это верно; такой удар всемирной державе нанес не он — к сожалению, не он. И будь Елизавете даже шестьдесят лет, ее народ не смотрит на годы, он видит великую королеву на белом иноходце, прекрасную, как всегда. Елизаветой руководит только единственно одна воля, которую не сломит ничто: ни жалость, ни любовь. «Имя „великий“ мне не пристало», — думает Генрих.
Лошадь его пошла шагом. «Имя „великий“ мне не пристало. Впрочем, разве можно сорокалетнему человеку медлить и откладывать свои личные дела? Я сам лучше знаю, что с Руаном мне спешить некуда, сперва надо пристроить господина д’Эстре». Это он и сделал вскоре. Он захватил город Нуайон и посадил туда губернатором отца Габриели. Честный малый сразу почувствовал, что отныне ничто не может его обесчестить. Дочь открылась ему: она надеется стать королевой.
Все слуги у нее были протестанты. Она давала пасторам деньги на их ересь, и вскоре сама была заподозрена в ереси. В течение лета король делал ей такие богатые подарки что, кроме личных трат, у нее хватало и для более высоких целей. Следуя совету тетки де Сурди, она завязала сношения с консисторией, нащупывая, согласятся ли там расторгнуть брак короля. Иначе, так намекали посредники, можно опасаться, что король отречется от своей веры. Таким путем он сразу завладеет своей столицей и будет достаточно могуществен, чтобы добиться у папы всего, чего пожелает, — вернее, того, что внушат ему госпожа де Сурди и ее тощий друг. Ибо влюбленный Генрих в это лето забыл все на свете. Такова, к сожалению, была истина.