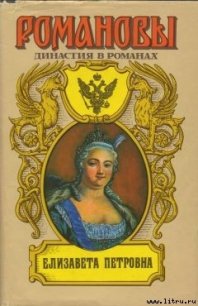Жаркое лето 1762-го - Булыга Сергей Алексеевич (прочитать книгу TXT, FB2) 📗
— А вот скажите, любезный Иван Иванович, а что это было бы, если бы господин Суворов у Великого государя вдруг вот так же шпагу попросил? И тоже так при войсках?
Иван Иванович на это улыбнулся, помолчал, потом сказал:
— При каких это войсках? Да кто бы это посмел их собирать? А кто бы решился собраться?
— Ну а вдруг, Иван Иванович! — не унимался Разумовский. — Вот вы только это представьте. Ну хоть как во сне.
— Разве что только во сне, — сказал Иван Иванович и вышел нужной картой. Игра пошла дальше. А Иван Иванович, наверное, увлеченный предположением Разумовского, заговорил теперь такое: — Да если бы Суворов только бы увидел, кто из кареты выходит, так он тут бы и упал. Вася Суворов — это же его бывший денщик, и он его нрав крепко знает. И я не только про его дубинку знаменитую. Дубинка что! А вот, и это я сам сколько раз чуял: его еще нет, он еще не приехал, а уже как будто бы какой мороз на всех находит! Ну, думают, значит, он скоро будет. И точно! Приезжает. И спрашивает: где мой помощник верный? А это в двадцатом году было, на верфи. Я же тогда был у него в великой ласке. А сначала думал: не сносить мне головы. Я же тогда, а это еще почти в самом начале, приезжаю, а он уже там. И мне говорят: Ванька, он тебя ищет! Ванька, он весьма гневен! А я… Ну, молодой я был тогда! Я же только под утро домой приволокся, и перегаром от меня разит. Эх, думаю, скажусь больным, спрячусь, пусть они про меня скажут, что я больной… А после думаю: нет! И сам пошел к нему, пал в ноги и повинился. Он засмеялся, говорит: твое счастье, что правду сказал. А не то, говорит… Или вот еще…
И тут Иван Иванович начал, не прекращая игры, рассказывать, как он с Васькой Татищевым ездил в Венецию учиться морскому делу и какие там были соблазны. А после что было в Испании. Рассказывал он очень интересно, и, наверное, в другой раз Иван слушал бы его с большим вниманием, но теперь он думал только о том, зачем они его здесь держат, отпустили бы его! Или они так боятся, как бы он, не приведи Господь, не вышел бы отсюда и не сказал бы кому, кого он на Шлиссельбургском тракте видел. С мушкетом! Да и их там, мушкетов этих, может, запрятан Целый взвод для верности, очень сердито подумал Иван…
Так и Иван Иванович вдруг ни с того ни сего рассердился и, сам себя перебивая, заговорил уже вот что:
— Шпагу у него забрали! Тоже государь нашелся! Срам какой! А тот, Великий государь, он не только бы шпаги не отдал, а, ничего не говоря, этой шпагой да Василия по голове! И насмерть! И сразу к генералам! И им бы тоже показал! Один! И побежали бы они, как этот Зайцев! А войска бы кричали «Ура!» А барабаны били церемонию! А он бы по лестнице наверх и во дворец! И гвардия за ним! И дальше суд!
Сказав это, Иван Иванович, явно довольный собой, достал платок и аккуратно утер им губы. Все молчали. Потом Никита Иванович осторожно спросил:
— А что суд?
— А ничего, — строго сказал Иван Иванович. — Но сначала следствие. А это значит, что Гришку бы сразу на дыбу, там дали бы ему кнута три, больше не надо, и он бы сразу сказал, отчего это войска так взбаламутились. Потому что куплены они, вот что! Потому что где артиллерийская казна? И тогда где генерал-фельдцеийхмейстер? А подать его сюда! И Вильбоа на дыбу! И показать ему кнута, а бить не надо, он и так все скажет! И Вильбоа покажет на тебя, Кирюша! — громко сказал Иван Иванович и показал на Разумовского. — И на тебя! — тут же добавил он, указывая на Волконского. И продолжал: — И вас тоже на дыбу! Вам тоже кнута! А тут царь приезжает, выпил водки, пирогом с морковью закусил, а после из-за стола вышел, велел палачу отдохнуть, а сам взял кнут… И ведь такое тоже было, голуби, сам видел!
— А самого тебя секли? — спросил Волконский.
— Бог миловал, — сказал Иван Иванович. — Да и когда он мог меня сечь? Сперва я сидел в своей деревне, а это ему далеко, не достать. После меня забрали в школу учиться. От жены забрали, от детей. Мне двадцать два года тогда уже было. Забрали! А после сразу в Европу заперли. На три года. Вернулись, а над нами все смеются. Понабирались, говорят, латинской дури. Ох, нам тогда было горько! Только один государь нас жалел. И он же меня спас тогда — я же тогда один на весь Петербург умел по-итальянски… А отправили меня к султану. Резидентом. И я… — Но тут он спохватился, погрозил Разумовскому пальцем, сказал: — Нет, вы меня не сбивайте! А слушайте дальше. А дальше было бы так: Гришку на кол, ее в монастырь, тебя, Кирюша, сечь кнутом и в Сибирь, тебя, Михайло, тоже сечь и еще рвать язык, потому что ты злодей матерый, и тоже в Сибирь, а тебе, Никита, рубить голову.
— А почему мне одному? — спросил Никита Иванович без всякой злости, а даже почти с любопытством.
— А не одному, — сказал Иван Иванович. — Потому что мне тоже. И все мои деревни переписать в казну. Вот как оно было бы по совести. А так, как это сейчас получается, так даже как-то стыдно становится, что мы до такого дожили. Измельчал народ! И вот я опять же вспоминаю, как когда мы были в Голландии, в Амстердаме, нам там в одном доме великую диковину показывали: в банке со спиртом одного уродца бородатого, а росточку в нем было всего вот столько, вот как моя ладонь. И про этого человечка вот какую басню рассказывали: что это в дальних южных морях, в Новой так зовущейся Голландии есть такая целая держава таких…
Но дальше Иван Иванович рассказать не успел, потому что в дверь вдруг тихо постучали. Стук был условный, особенный. Никита Иванович насторожился, и все за ним тоже, а после велел входить. Вошел слуга, Никита Иванович велел ему говорить, и слуга сказал, что прибыл еще один курьер из Петергофа. Никита Иванович подумал, покосился на Ивана и сказал, что пусть курьер входит. Слуга ушел. Вошел курьер. Он был одет очень просто, как маркитант какой-нибудь. Да это, наверное, и был маркитант. По крайней мере, так о нем подумал Иван, когда этот человек вошел и осмотрелся, и сразу оробел, и даже отступил на шаг, к самой двери. Никита Иванович, увидав такое, улыбнулся и очень приветливо сказал:
— Говори, голубчик, не робей.
Курьер сказал:
— Отъехали они. Но не по той дороге.
— А по какой? — спросил Никита Иванович.
— На Сарское, — ответил курьер так, как будто он в этом был виноват.
Ну, виноват не виноват, а Никита Иванович крепко на это разгневался!
— Как это на Сарское? Почему?! — очень строго спросил он. И даже уперся ладонями в стол, как будто собрался вставать.
Курьер совсем перепугался и быстро-быстро начал:
— Ваше наивысоко! А что я могу знать? Я червь! Я…
И тут он совсем замолчал. Потому что Разумовский быстро встал из-за стола и повернулся к нему, и уже тоже открыл рот…
Но тут князь Волконский крепко взял его за локоть и потащил обратно. Разумовский сел. Тогда Волконский повернулся к курьеру, ласково ему улыбнулся и так же ласково сказал:
— Ты, братец, на них не смотри. Ты на меня смотри. Тебя господин майор к нам послал?
— Так точно, к вам, — сказал курьер.
— И что он велел нам передать?
— Что на Шлиссельбу… — начал было курьер, но спохватился и продолжил уже так: — Что по той дороге они не поехали. А поехали они на Сарское.
— Кто «они»? — спросил Волконский.
— Карета их, — сказал курьер уже почти без страха. — Восьмерик, четырехместная. С охраной. А охрана там была такая: на подножках, на запятках и на козлах гренадеры, все они в полном вооружении, и пол-эскадрона эскорт. И поехали они на Сарское. И очень шибко.
— Это карета, это мы уже слышали, — уже не с такой лаской сказал Волконский. И строго спросил: — А кто в карете?
— Не могу знать, — сказал курьер. — Не видели! Да и как там было смотреть?! Они же подали карету к самому подъезду, почти на ступеньки. И кто знал, что подадут?! Никакого знака не было. Только видим: суета какая-то вдруг начинается. И мы скорей туда! А там уже забегали. А после начали толкаться, оттирать, а кого и по зубам… И никто не видел, как его туда всадили.