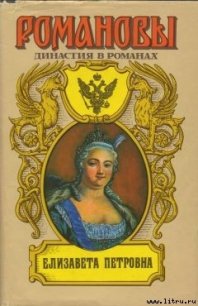Жаркое лето 1762-го - Булыга Сергей Алексеевич (прочитать книгу TXT, FB2) 📗
Но с бумагой не так просто! Там же с ней будет вот что: Маслов возвращается обратно и как будто начинает собирать ужин. Но государь вдруг говорит: нет, я еще не голоден, оставьте меня в покое! И почему от нее нет письма? Почему она молчит?! У меня нет аппетита. Я напишу ей письмо, новое, я буду жаловаться на вас, дайте мне бумагу, дайте перо! Они засмеются и дадут. А если не дадут, тогда он начнет перед ними заискивать, говорить, что он на все согласен, он подпишет любые ее требования, только пусть она позволит ему поскорее выбраться из этого ужасного места, где его каждую ночь донимают страшные привидения замученных здесь людей, он готов хоть в Шлиссельбург, только бы скорей отсюда! И опять потребует бумагу и перо. И вот тут они уже ему это дадут. Он сразу сядет за стол, возьмет бумагу и начнет требовать теперь уже вот чего: чтобы ему не заглядывали через плечо, он не хочет, чтобы они знали, о чем он пишет государыне, потому что это, в конце концов, их семейное дело, и не нужно скалить зубы, граф Орлов! Какой вы, к черту, граф! Отвернитесь, я сказал! И Алексей Орлов еще сильней оскалится и демонстративно отвернется, скажет, что он плевать хотел на всю эту потеху и на тебя, урод! Вот как он ему ответит! И повернется к Маслову, а Маслов подаст ему полный стакан водки, Орлов поморщится, но тут ему один наш человек… Но как его зовут, его сиятельство говорить не стал, сказал, что какая разница, как его зовут. Да за такие деньги, он сказал, которые ему за это плачены, любой на это согласился бы! На что, спросил Иван. Да на то, ответил его сиятельство, что этот человек поднимет свой стакан и чокнется с Орловым, всего-то делов, и они начнут пить. А в это время Петр Федорович (так его назвал его сиятельство) быстро подпишет манифест, Маслов сгребет его со стола, спрячет себе под кафтан, а Орлов с тем человеком все еще будут пить, а Петр Федорович громко постучит пером в чернильницу и начнет писать примерно вот что: Мадам! Ваше величество! Если вы совершенно не желаете смерти… Ну и так далее, и это, конечно, по-французски, он же ей всегда пишет по-французски, так и теперь будет писать. А Орлов с тем человеком спросят закусить. Маслов скажет, что он мигом, и опять пойдет в тот закуток, сунет манифест в дыру, сорвет с крюка круг колбасы, пойдет с ним обратно, а там…
Но что будет там дальше, это Ивану уже совершенно неважно — Иван должен будет сразу срочно возвратиться, пока не хватились караульного. Вот о чем думал Иван, стоя на той площадке и прислушиваясь к голосам, которые теперь почти уже не умолкали. Но о чем именно там говорили, Иван не слышал. Как не слышал Иван и другого — шагов Маслова. То есть Маслов не шел и не шел! Что с ним такое случилось? Или его что, перекупили, что ли? Вот о чем уже думал Иван, потому что, как ему казалось, он стоит здесь уже очень долго, может, час, а может, и все два, у него же уже ноги затекли! А Маслова все нет и нет. А там, в известной комнате, разговор идет все громче и громче. И вот уже, Иван это слышит хорошо, государь почти кричит: канальи! А вот он еще что-то добавил, тоже очень громко, но не по-русски и не по-немецки, а по-французски, что ли? И эти ему в ответ уже тоже что-то кричат! Как бы не было какой беды! Подумав так, Иван не выдержал, рванул крюк и вытащил кирпич. И ему сразу стало все слышно. А слышно было вот что: вначале чей-то незнакомый голос очень громко и очень серьезно сказал:
— Довольно. Вы и вы! И вы, Петр Федорович, тоже! Вы тут не орите. Тут же не казарма и не голштинский трактир. А это царский дворец, между прочим.
— А я, между прочим, тоже царь! — в тон ему ответил государь.
— Царь! — повторил тот же голос. — Да какой ты царь! Ты немецкий урод, вот ты кто.
И тот голос рассмеялся. И еще кто-то рассмеялся вместе с ним. Зато еще один, уже третий голос, очень серьезно сказал:
— Господа! Господа! Так нельзя. И я вообще не понимаю, с чего все началось. Да с сущего пустяка. Не так ли, Петр Федорович?
— Нет, это совсем не пустяки! — ответил государь сердито, но уже не так громко, как прежде. — Это грубое насилие, а не пустяки. Я сказал, что я не хочу пить. А почему он меня заставляет?!
— Помилуйте, да разве я заставлял?! — удивился первый голос. — Алексей Григорьевич, вот вы, как бесстрастный свидетель, скажите: разве заставлял?
— Ну, не знаю! — ответил Алексей Григорьевич (Орлов — сразу узнал его Иван). — Заставлял! — Насмешливо передразнил Орлов. — Что-то я не узнаю вас, дражайший Петр Федорович. Или вот вам уже и наша водка поперек горла становится? Да-да, вот вам уже и даже наша водка не по нраву, вот до чего вы Россию не любите.
— Да при чем здесь Россия?! — воскликнул крайне раздраженный государь. — Я же про водку говорю.
— А водка русская! — вскричал Орлов. — Почему вы русской водкой брезгуете?!
— Да не брезгую я! Я же одну рюмку выпил!
— Ну так выпей и вторую, черт!
— Я не хочу!
— А перед ужином! Для аппетита!
— Какой аппетит? Она отравлена!
— Что? Как ты сказал?!
— Яд! Там яд! — закричал государь. — Вы хотите меня отравить! Негодяи! Я не хочу!
— Пей!
— Нет!
— Пей! Держите его!
— А!
— Держите! Дави!..
А дальше было уже совсем ничего не понятно. Крик там стоял просто невообразимый! И еще грохот был! Топот! Потом криков почти совсем не стало, да и грохот прекратился, была только одна возня какая-то. А потом и возня стихла. Потом чей-то незнакомый голос очень испуганно воскликнул:
— Господи! Как теперь быть-то?
Никто ему ничего не ответил. После Орлов мрачно сказал:
— А вот так и быть!
Потом тот самый первый голос, который все начал, спросил:
— А где этот Нил?
— Какой Нил? — спросили у него.
— Ну, его лакей, — ответил этот голос. — Мне, что ли, теперь с ним возиться? А я покойников боюсь.
— Не крестись! — строго сказал Орлов. — Он не православный был. Чего ты крестишься?! — И добавил уже грозно: — Чего ты крестишься, скотина?! А где этот дурак, подавало его?! А ну ищите! Время идет, а вы стоите, будто…
И добавил резко неприличное. Там тогда сразу затопали. Кто-то из них подошел к закутку. Иван сразу сунул кирпич в стену. Стало тихо. Иван постоял, перекрестился, после постоял еще, послушал, но уже ничего толком расслышать было невозможно… И вдруг подумал, что здесь уже ничего не поделаешь, а вот там остались Яков и его сиятельство, и их могут убить. Надо туда спешить! И он развернулся и пошел к карнизу, очень быстро.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Колечко
Идти обратно по карнизу было совсем легко. Так же легко было спускаться по скобам. А спустившись, Иван сразу наклонился, на ощупь поискал фонарь, нашел его и засветил, встал и пошел дальше. И довольно быстро, только один раз ненадолго сбившись, пришел к выходу. Точнее, самого выхода видно тогда еще не было, а это просто от него уже потянуло свежим воздухом, и Иван остановился и прислушался. Было совсем тихо, казалось, можно было идти дальше. Но что такое тихо, Иван знал хорошо — когда засада, тоже всегда тихо. А тут он еще и с фонарем, значит, взять его будет совсем легко, думал Иван, продолжая прислушиваться. И вот, думал Иван, он сейчас выйдет, и его сразу возьмут, обыщут и найдут манифест. И за такое сразу плаха! И не только одному ему, но и тому, кто этот манифест писал, и тому, кто его сочинял, и кто советовал, и также всем тем, кто об этом знал, но не донес. Подумав так, Иван присел, поставил фонарь на пол, открыл боковое стекло, после достал из-за пазухи манифест и поднес его к свече.
Манифест горел долго и плохо, потому что, во-первых, он был писан на плотной бумаге, а во-вторых, потому, что тяги там почти что никакой не было, Иван боялся, что свеча погаснет. Но не погасла, манифест сгорел весь. Иван разметал пепел, после загасил фонарь, убрал его к самой стене, встал и пошел дальше, теперь уже очень медленно, потому что ничего не видел. И ничего он тогда о манифесте не думал, и о Павле Петровиче не вспоминал, и ни о его отце, ни об Орлове, а только думал одно: надо скорей выйти, и чтобы его там никто не караулил!