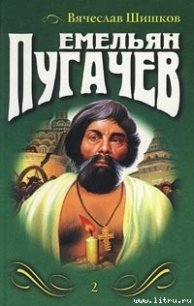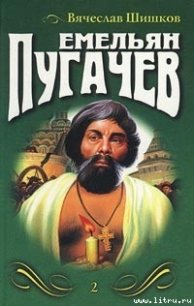Емельян Пугачев. Книга 1 - Шишков Вячеслав Яковлевич (прочитать книгу .txt) 📗
Тот, предупредив маневр Митрича, быстро заложил руки назад, полное, губастое, с большими серо-голубыми глазами лицо его заулыбалось. Громким, басистым голосом он спросил:
— Уж не с позорища ли едешь, землячок?
— С него, с него, Михайло Васильич, батюшка… Молитесь за упокой души раба божия Василия: с плеч головушку снесли ему.
Михайло Васильич только рукой махнул, наморщил лоб, посмотрел вдоль просеки, в сторону Невы.
— Торжествуйте, Немезиды и Минервы, — произнес он про себя. — Пожалуй, ныне надо ожидать, что убийцы доподлинные в графское достоинство возведены будут, аки Орловы господа… Ась? — добавил он тихо, чтоб не услыхал Хряпов, бывший в некотором отдалении.
— Не знаю-с, не знаю-с… — оглаживая бородищу, смущенно подал голос Митрич. — Как всемилостивейшая матушка распорядится…
— Токмо при матушке-та зело много батюшек… Ась? — улыбнулся глазами собеседник и вынул черепаховую табакерку.
Митрич поспешно выхватил из камзола свою серебряную вызолоченную табакерку и, открыв ее грязными ногтями, с поклоном поднес собеседнику:
— Прошу моего отведать. Забористый! Самого императора Петра Федоровича, покойничка — запасу-с… Батюшка, Михайло Васильич! Много вашей милости благодарны мы со старухой за своего племяша. Спасибо, что приделили его в свою фабричку.
— Работает, работает. Тщусь надеждой — мастер из него выйдет добрый.
В орнаменте разбирается и в оттенках цветных камушков имеет глаз отменно верный.
Подъехала карета, открылась дверка, и красивый, в блестящей военной форме человек, высунувшись из кареты, командирским басом проговорил:
— Вот он где. А я тебя, Михайло Васильич, ищу… Садись!
— А-а, Алексей Григорьич! — попросту поклонясь, проговорил тот и, поддерживаемый Митричем, тяжело полез в карету графа Алексея Орлова.
— Кто такой? — спросил Хряпов бывшего лакея, когда их двуколка двинулась вперед, шурша колесами по щебню.
— Сам граф Орлов.
— Да не про графа я. Алешка Орлов, сукин сын, задолжал моей фирме сверх пяти тысяч. Рябчиков жрать да пьянствовать любит, а денежки платить — нет его.
— А другого-то нешто не знаешь? Ломоносов это. Самый что ни на есть ученый по России человек…
— А кто его знает… В моих должниках не ходит. А до ученых мне горя мало. Дако-сь наплевать… Вижу — человек здоровецкий, только чаю, ногами не доволен.
— О-о, силач! — захлебнулся улыбкой Митрич. — Из поморов, из мужиков, с-под Архангельска. Землячок мой любезный. Евоный батька первеющий в Холмогорах рыбак. А сам-то он всю науку превзошел за границей.
Двуколка стала повертывать на Седьмую линию.
— Вот на самом том месте, видишь, соснячок стоит, — указал Митрич в конец просеки Большого проспекта. — Тут господин профессор Ломоносов в ночное время троих воров избил… Да-а-а, — раздумчиво протянул Митрич. — Был конь, да изъездился. Так и Ломоносов господин. Винцом зашибал, сердяга. Любил погулеванить. Я с ним, почитай, с вьюных годов знаком.
Тпру, приехали…
…И карета Алексея Орлова остановилась. Ломоносов ввел гостя в свою двухэтажную мозаичную мастерскую, помещавшуюся на его земле, за его собственным домом по Новоисаакиевской улице на Мойке. Тут же были выстроены и десять небольших каменных покоев для мастеров.
— Ну, фабрикант, кажи, кажи, что у тебя тут, — сказал всегда веселый и беззаботный Орлов.
М. В. Ломоносов действительно был полунищим фабрикантом. Его кипучей, всегда деятельной натуре тесно в стенах Академии. От физических и механических опытов, от бесконечных вычислений, писания ученых трактатов его неудержимо тянуло к живому труду, в самую гущу жизни. В его гениальную голову влетела мысль завести в России тонкое итальянское искусство мозаики. Десять лет тому назад, по его ходатайству, было ему нарезано в Копорском уезде девять тысяч десятин земли, закреплены за ним четыре деревни с двумя сотнями крестьян и выдана небольшая денежная ссуда. В деревне Усть-Рудицы, верстах в семидесяти от Петербурга, он построил маленький стеклянный завод. В главном здании, длиной восемь, шириной шесть сажен, помещалась лаборатория с несколькими печами для выработки цветных стекол, а к этому зданию примыкала небольшая мастерская. Вот и вся фабрика.
А в петербургской мастерской, куда они вошли, главным образом выделывались нужные для мозаики стеклянные всевозможных цветов палочки (смальты) и производились мозаичные работы.
— Вот-с, пожалуйте, — Ломоносов снял плащ, бросил его на скамейку и повел Орлова к застекленному шкафу. — Помимо смальты, мы делаем бисер, пронизки, стеклярус. А вот и графинчики у нас есть, и кружки, и табакерки, фужеры, блюдца, запонки, набалдашники… Всякого жита по лопате.
— Изящно, Михайло Васильич, одобряю, брат, одобряю. Вещицы хоть куда, хоть ко двору. Только, чаю, не в этом твоя сила, не в графинчиках да бисере. В науках слава твоя, Михаило Васильич.
Ломоносов, усмехаясь глазами, поклонился и сказал:
— А может статься и — в лире. Стихотворство — моя утеха. Физика — мои упражнения.
Два богатыря — молодой и пятидесятидвухлетний — бывший мелкопоместный дворянин и бывший простой мужик улыбчиво смотрели друг другу в глаза. На Ломоносове широкая шелковая блуза, вправленная в табачного цвета штаны, на шее — пышный белый, в складках, галстук, на ногах вместо длинных чулок и башмаков, суконные на пуговицах сапоги — больные ноги его опухали.
— Старишся, Михайло Васильич. С палочкой ходишь. Поправляйся, брат, оздоравливай да ко мне приезжай, спляшем…
— Нет уж, не до плясов мне ныне, Алексей Григорьич, не до ваших придворных комеражей. Со смертного одра едва-едва встал, — стараясь сдерживать раскатистый свой голос, ответил Ломоносов. — Впрочем сказать, я о смерти не тужу: пожил, потерпел. А умру — дети отечества обо мне пожалеют, — с гордым блеском в глазах сказал он и откинул в седых буклях голову.
Был обеденный перерыв, в мастерской пусто. Орлов закурил трубку. На его лощеных пальцах блестели бриллианты. Дорогого шелка блуза и штаны Ломоносова — в пятнах от химических реактивов, брюссельские кружевные манжеты слегка засалены.