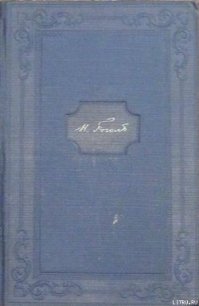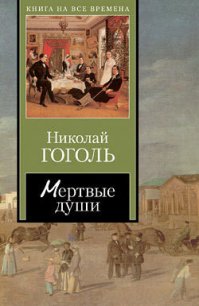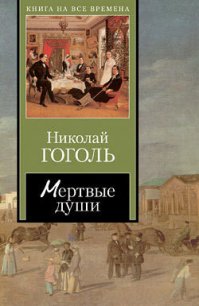Мертвые души. Том 3 - Авакян Юрий Арамович (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
О многом сумели они перетолковать тем днем и многое казалось им важным и необходимым в этих разговорах. Чичиков узнал, что живут они очень скромно, невзирая на полученное Улинькою наследство, потому как считают, что коли судьба им выпала такая, то и жить, стало быть, надобно по судьбе. Улинька, на удивление всем, заделалась настоящею хозяйкою, справляясь, по словам Андрея Ивановича]6 не хуже какой—нибудь заправской кухарки либо экономки, да к тому же имела она в городе уроки, о чём Чичиков уже узнал от полицеймейстера.
Сам же Андрей Иванович намеревался, как только закончится срок его поселению, заделаться хозяином на земле и из Сибири уезжать не собирался, твёрдо решивши для себя оставаться в этих краях.
— Вот и преотлично, — сказал Чичиков будто бы шуткою, — возьмёте меня к себе соседом жить.
А сам подумал, что лучшего управляющего для приисков ему и не сыскать, потому как порядочность натуры Анлдрея Ивановича была ему хорошо известна. Что же до некоторой лености или же лучше сказать ипохондрии, свойственной Тентетникову прежде, то от неё ныне не оставалось уже и следа. Уж это был иной человек, уж жажда деятельности сквозила в каждом его слове, зачастую весьма точном и показывающем знание здешних мест и обстоятельств. И сие так же показалось Чичикову весьма полезным и он окончательно убедился в том, что Андрей Иванович и есть тот самый, кому он без боязни мог бы доверить прииски, которые, как мы не раз уж о том говорили, уже почитал своими.
Однако время сделалось совсем уж обеденное, но Чичиков к обеду не остался, резонно рассудивши, что на его персону не рассчитывали, потому как не могли и помыслить, что всё закончится таковым вот мирным образом. Потому—то, дабы не смущать хозяев и условившись о скорой с ними встрече, он и уеха,л провожаемый радостными улыбками Улиньки и Андрея Ивановича, которых и на сей раз сумел обмануть.
После описанной нами только что встречи прошло без малого около месяца прежде чем удалось Павлу Ивановичу, выбравшись из Собольска, отправиться в обратный путь. И, несмотря на уж давно выправленные бумаги, бывшие у него на руках, несмотря на то, что осень, вступившая в свои права, обещала сделать непростым путешествие нашего героя, как то всегда бывает, когда приходится ездить вымокшими и раскисшими от дождей дорогами, он всё откладывал и откладывал свой отъезд.
Причиною тут было некое секретное дело, завязавшееся у Чичикова с одним из купцов, встреченных им в Присутствии у Петра Ардалионовича ещё в первый день по приезду, что в числе прочих сунул ему свою карточку, на которой значилось: «Лес строевой и деловой – любые поставки». Как прозывался сей купец нынче уж трудно припомнить, да сие, признаться, и не особо важно для нашего повествования, однако надобно думать, что деньги ему были плачены Чичиковым немалые по причине того, что дело меж ними обделывалось в тайне, а ежели кто и привлекался к сему делу со стороны, то это всё был народ пришлый да случайный в этих местах.
Но вот, наконец—то, по прошествии нескольких недель распахнулись глубокой ночью некие ворота некоего же огромного лабаза и из него потёк, потянулся в темноту обоз, гружённый свежеструганными дубовыми крестами. Зрелище сие и без того необычное, от которого иного мог бы продрать и мороз по коже, могло сделаться и ещё необычнее, ежели удалось кому взглянуть на приколоченные к крестам таблички, из которых следовало, что покойники, коим предназначены были сии кресты, покуда вроде бы как и живы и умрут все только о следующем годе в одно и то же время, а именно, что весною.
Подобное знание сроков чужих жизней дело весьма удивительное, могущее кого угодно привесть в изумление, потому как доподлинно известно, что в подобных случаях без чертовщины не обойтись. Однако так уж вышло, что ни во время всего пути, проистекавшего под покровом ночи, ни на месте, куда прибыл жуткий обоз, взглянуть на те кресты было некому по той причине, что место сие было глухое, никем не посещаемое, почиталось за проклятое и прозывалось Роговским погостом.
ГЛАВА 11
Уж так оно заведено в Божьем свете, что всему свой черёд: и плохому и хорошему. И в том нет ничего дурного, уверяю вас, господа! Хотя, признаться, подобное положение дел, мало того, что не устраивает многих и многих, но порою ещё и страшит их до чрезвычайности. Да чего греха таить, и ваш покорный слуга не раз испытывал душевный трепет при одной лишь мысли о недоступности его пониманию будущности – столь тёмной и столь неведомой до каждого из нас. И в то же самое время одна лишь она и есть единственное, чего по настоящему жаждает человек, по той простой причине, что только будущность и является обиталищем всех его надежд и чаяний, заставляющих всякого, не глядя на понесённые уж им ущербы да уроны, стремить жизнь свою далее.
Что же тут поделать, друзья мои, коли то бренное существование, на которое обречён каждый от мала до велика, прозываемое нами жизнью, соткано всё из таковых тёмных и тесных обстоятельств, что ежели только быть честным, ничего кроме боли, неверия и стыда не могут они вызвать в бедном человеческом сердце. Так что же поделать тут, как только не уповать на будущность, втайне надеясь, что может быть где—то на потаённых её дорожках дожидают нас долгожданные счастье, свет и покой…
Отчего это я вдруг решил заговорить о сем предмете? Трудно сказать, наверное, может быть даже и от того, что подошла к концу громадная моя работа? Та, что может показаться кому—то и замечательною, а кому и вовсе пошлою и не стоящею того, чтобы посвящать ей целую жизнь.
Так для чего же создавалась сия поэма, коли здесь в юдоли земной ничего толком и понять невозможно и не существует, как принято думать, окончательных ответов на все те вопросы, что задает нам жизнь? Из одной лишь игривости ума, коей Господь наградил меня с избытком, предпринял я столь неожиданную попытку? Или же вящей славы ради, либо ещё какого искушения, не побоявшись показаться смешным, прилагал я безумные усилия свои, стремясь побороть и испепеляющий всё жар пламени, пожравшей некогда великое творение, и глухое молчание самоей Смерти, что, может статься, во первой только раз и выпустила что—то, даже пускай и горсточку этих вот строк, из своей леденящей длани?
Нет, господа, как то кому будет угодно, но я твёрдо знаю, что всё содеянное мною, содеяно по промыслу Божьему. Потому—то и ответы, коих терпеливо дожидается верный мой читатель, будут, обязательно будут даны. И тому уж недолго осталось. Уж всего—то несколько страниц надобно перечесть вам, друзья мои, и всё тогда расстановится по своим местам, сделавшись вдруг простым и понятным! И все слёзы высохнут и раны зарастут, но уж верно откроются и новые раны, уж новые слёзы потекут по иным, пускай и незнакомым до нас щекам, и новая рука, обмакнувши перо в чернила, потянется к чистому белому листу бумаги, но то уже будет другая – не наша история.
Промерзающая ночною порою земля по утру убирала потемневшие бурые травы кружевными узорами инея, выбеливая не одни лишь только поля и перелески, раскинувшиеся вокруг, но и саму дорогу, оборачивая все придорожные кочки да камни в некия подобия пушистых белых зверушек, мирно прикорнувших у обочины. Встречаемые по пути лужи уж все до одной затянуты были прозрачным, словно стёклы, ледком, звонко трещавшим и ломавшимся под копытами запряжённых в коляску коней. А зябкость, словно бы висевшая в воздухе, проникала и вовнутрь коляски, заползая даже и под меховую полость, в которую кутался Чичиков.
Долгие вёрсты, пройденные его экипажем, потерялись уж далеко позади, уж пересёк он громадные пространства, что отделяли Сибирь от России, покуда не ощутил промозглое и пробирающее чуть ли не до костей, дыхание северной нашей столицы. Дыхание, в коем слышалось сильное присутствие студёных ветров, летавших над этими близкими до холодного моря российскими просторами, уж отданными в безраздельное владение хмурой и поздней осени. Ворох сочиненных и выправленных Чичиковым с таковыми трудами бумаг, что в самое короткое время должны были обратиться в капиталы, в состояние, коего он с беспримерным постоянством и усердием добивался, подогревал его нетерпеливое стремление к Петербургу, ещё терявшемуся где—то за висевшею над землею тёмной небесной хлябью.