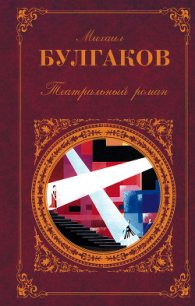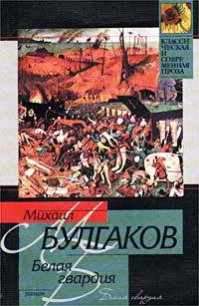Главы романа, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг - Булгаков Михаил Афанасьевич (читать книги без сокращений .TXT) 📗
– В чем дело, товарищ? Я не принимаю!
Красавица вскочила и, указывая рукой на костюм, рыдая и топоча ножками, вскричала:
– Вы видите?! Видите? Спасите его, верните! О, Боже! – стала ломать руки.
Из коридора донеслись тревожные голоса, затем кто-то сунулся в дверь, охнул, кинулся бежать.
– Я всегда останавливала, когда он чертыхался, – в отчаянии кричала красавица, терзая носовой платок, – вот и дочертыхался! Проша!
– Кто вам тут «Проша»? – спросил страшным голосом костюм.
– Не узнает! Не узнает! – взрыдала красавица.
– Попрошу не кричать в кабинете, – заходясь, сказал костюм в полоску.
Красавица зажала рот платком, а костюм невидимой кистью подтянул к себе пачку бумаг и стал размашисто и косо ставить какие-то пометки на бумагах.
«Резолюции ставит!» – подумал бухгалтер, и волосы его шевельнулись.
Красавица еще что-то пискнула, но костюм так злобно рыкнул, что она умолкла. Но, движимая желанием рассказать, она зашептала Захарову:
– Приходит сегодня какая-то сволочь толстая, похож на кота, и прямо ломит в кабинет... Я говорю: «Вы видите надпись, гражданин?» А он влез, говорит: «Я уезжаю сейчас...» Ну, Прохор Наумыч, он человек нервный несколько. Вспылил. Он добрейшей души человек, но нервный. «Понимаете вы русский язык, товарищ? Что вам надо?» А этот нахал отвечает, вообразите: «Я пришел с вами поболтать!» Как вам это покажется? А? Ну, тут Прохор Наумыч не вытерпел и крикнул: «Да вывести его вон, чтоб меня черти взяли!» Тот, вообразите, этот негодяй, улыбнулся, и в ту же минуту Прохор Наумыч исчез, а костюм... – и здесь красавица разрыдалась и затем понесла какую-то околесину о том, что нужно немедленно звонить, про каких-то врачей, уголовный розыск...
Захаров вдруг поднялся, задом скользнул в дверь и, чувствуя, что близок к умопомешательству, покинул управление. И очень вовремя, по лестнице навстречу ему поднялась милиция. Другой на месте Захарова уже тут сообразил бы, что на сегодняшний день лучше выйти из игры и никуда больше не ходить, но бухгалтер, во-первых, был недалек, а во-вторых, добросовестен. Проклятый портфель, в котором лежало 17 тысяч вчерашней кассы, жег ему руки. Захаров, чего бы это ни стоило, хотел сдать казну и поэтому пешком, в известковой пыли, пробежал с Остоженки в Ваганьковский переулок и явился в отдел сметы и распределения того же управления с целью избавиться от денег, распиравших портфель.
Отдел сметы разместился в облупленном особняке и замечателен был своими колоннами. Но не порфировые колонны в этот знаменитый день поражали посетителей отдела.
В вестибюле сбилась целая кучка их и, открыв рты, глядела на барышню, продающую под колонной литературу. Барышня эта плакала и что-то злобно пыталась рассказать. Второе из ряда вон выходящее обстоятельство заключалось в том, что из всех комнат особняка несся непрерывный грохот телефонов, к которым, по-видимому, никто не подходил.
Лишь только Захаров оказался в вестибюле, барышня прервала рассказ, истерически крикнула: «Опять!» – и вдруг запела дрожащим сопрано:
– Славное море, священный Байкал!
Курьер, показавшийся на лестнице со стаканами на подносе, выругался коротко и скверно, расплескал чай и запел в тон барышне:
– Славен корабль, омулевая бочка!..
Через несколько секунд во всех комнатах пели служащие про славное море. Хор ширился, гремел, в финансово-счетном секторе особенно выделялись два мощных баса. Аккомпанировал хору усилившийся грохот телефонных аппаратов и плач девицы.
– Молодцу плыть недалечко! – рыдая и стараясь стиснуть зубы, пела девица.
Курьер пытался прервать пение, вставляя матерные слова, но это ему плохо удавалось.
Прохожие в переулке стали останавливаться, пораженные весельем, доносившимся из учреждения. Группа посетителей под колоннами, дико вытаращив глаза, смотрела на поющую девицу. Улыбки блуждали по лицам. Лишь только первый куплет пришел к концу, пение оборвалось, курьер получил возможность выругаться, выпустил несколько ругательств подряд, схватил поднос и исчез.
Тут в парадных дверях показался гражданин, при котором тут же в группе посетителей зашептали: «Доктор... доктор приехал...» – и двое милицейских.
– Примите меры, доктор! – истерически крикнула девица.
Тут же на лестницу выбежал секретарь и, видимо сгорая от стыда и растерянности, начал говорить:
– Видите ли, доктор, у нас случай массового... – но не кончил, стал давиться словами и вдруг запел неприятным козлиным тенором о том, что Шилка и Нерчинск нестрашны теперь...
– Дурак! Дурак! – крикнула девица, но не объяснилa, кого ругает, а вывела руладу, из которой явствовало, что горная стража ее не поймала.
Недоумение разлилось по лицу врача, но он постарался совладать с собой и сурово прикрикнул на секретаря:
– Замолчите!
Видно было по всему, что секретарь и сам бы отдал все на свете, чтобы замолчать, но сделать этого не мог, и могучий, рассеянный по всему учреждению хор вместе с секретарем донес до вконец соблазненных ваганьковских прохожих вопль о том, что в дебрях не тронул прожорливый зверь.
Девицу поволокли куда-то под руки, явился лекарский помощник с сумкой.
Захаров через минуту от взволнованных посетителей учреждения узнал, в чем дело.
Оказалось, что в перерыве, предназначенном по закону для завтрака, заведующий учреждением явился в столовую как раз в тот момент, когда все служащие доедали питательную и вкусную свинину с бобами.
Заведующий, по словам озлобленной девицы, сиял как солнце и вел под руку какого-то «сукина сына, неизвестно откуда взявшегося» (так точно выразилась девица), тощего в паршивых брючках и в разбитом пенсне.
Дело в том, что устройство кружков было манией заведующего. В течение полугода он организовал шахматно-шашечный кружок, кружок пинг-понга, любителей классической литературы, духовой музыки (последний быстро распался, так как проворовался кассир, игравший на валторне) и к июню угрожал организовать кружок гребли на пресных водах и альпинистов. Коротко говоря, заведующий ввел под руку Коровьева и отрекомендовал его всем любителям бобов как товарища-специалиста по созданию хоровых кружков. Лица будущих альпинистов стали мрачны. Но заведующий призвал всех к бодрости, а Коровьев тут же и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость: «На ходу! на ходу! – трещал Коровьев, – но удовольствия и пользы три вагона». И тут «этот подхалим Косарчук» (выражение девицы) первый вскочил и восторженно заявил, что записывается. Тут все увидели, что пения не миновать, и, как один, записались. Петь решили, так как все остальное время было занято пинг-понгом и шашками, в этом самом для завтрака перерыве. Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло как сон скверный (девица так говорила). Коровьев проорал «до-ми-соль-до», самых застенчивых извлек из-за шкафов, за которые они прятались в надежде отлынуть, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, попросил уважить старого регента-певуна грянуть «Славное море», камертоном стучал по пальцу.
Было 12. Грянули. И славно грянули, Коровьев действительно понимал дело. Первый куплет допели в столовой до конца, после чего Коровьев исчез.
Недоумение. Пауза. Радость. Но ненадолго. Как-то сами собой двинули второй куплет, Косарчук повел высоким хрустальным тенором. Хотели остановиться – не тут-то было. Пауза. Полился третий куплет. Поняли, что беда. Заведующий стал бледен, как скатерть в столовой.
Через час был скандал, неслыханный, страшный, всемосковский скандал.
К трем часам занятия были остановлены милицией. Врачи сделать ничего не могли. Захаров был уже на улице, когда к особняку подъехали три грузовых платформы.
Милиция распорядилась очень хорошо: весь состав учреждения – восемьдесят семь человек – разбили на три партии и на этих трех грузовиках и увезли. Способ был умный, простой и наименее соблазнительный.
Лишь только первый грузовик, качнувшись, выехал за ворота, улицы огласились пением про славное море, и никому из прохожих и в голову не пришло, куда везут распевшихся служащих из отдела смет и распределения. Но конечно, не трудно догадаться, что все три хора приехали как раз в то здание, которым руководил профессор Стравинский.