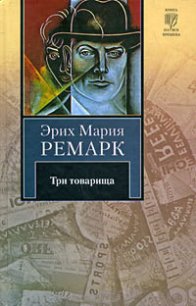Три товарища - Ремарк Эрих Мария (читать полностью бесплатно хорошие книги TXT) 📗
— Это мой друг, — сказал я девушке. — Товарищ по фронту. Он единственный человек из всех, кого я знаю, который сумел из большого несчастья создать для себя маленькое счастье. Он не знает, что ему делать со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что всё еще жив.
Она задумчиво взглянула на меня. Косой луч света упал на ее лоб и рот.
— Это я отлично понимаю, — сказала она.
Я посмотрел на нее:
— Этого вам не понять. Вы слишком молоды.
Она улыбнулась. Легкой улыбкой — только глазами. Ее лицо при этом почти не изменилось, только посветлело, озарилось изнутри.
— Слишком молода? — сказала она. — Это не то слово. Я нахожу, что нельзя быть слишком молодой. Только старой можно быть слишком.
Я помолчал несколько мгновений. — На это можно многое возразить, — ответил я и кивнул Фреду, чтобы он принес мне еще чего-нибудь.
Девушка держалась просто и уверенно; рядом с ней я чувствовал себя чурбаном. Мне очень хотелось бы завести легкий, шутливый разговор, настоящий разговор, такой, как обычно придумываешь потом, когда остаешься один. Ленц умел разговаривать так, а у меня всегда получалось неуклюже и тяжеловесно. Готтфрид не без основания говорил обо мне, что как собеседник я нахожусь примерно на уровне почтового чиновника.
К счастью, Фред был догадлив. Он принес мне не маленькую рюмочку, а сразу большой бокал. Чтобы ему не приходилось всё время бегать взад и вперед и чтобы не было заметно, как много я пью. А мне нужно было пить, иначе я не мог преодолеть этой деревянной тяжести.
— Не хотите ли еще рюмочку мартини? — спросил я девушку.
— А что это вы пьете?
— Ром.
Она поглядела на мой бокал:
— Вы и в прошлый раз пили то же самое?
— Да, — ответил я. — Ром я пью чаще всего.
Она покачала головой:
— Не могу себе представить, чтобы это было вкусно.
— Да и я, пожалуй, уже не знаю, вкусно ли это, — сказал я.
Она поглядела на меня:
— Почему же вы тогда пьете?
Обрадовавшись, что нашел нечто, о чем могу говорить, я ответил:
— Вкус не имеет значения. Ром — это ведь не просто напиток, это скорее друг, с которым вам всегда легко. Он изменяет мир. Поэтому его и пьют. — Я отодвинул бокал. — Но вы позволите заказать вам еще рюмку мартини?
— Лучше бокал рома, — сказала она. — Я бы хотела тоже попробовать.
— Ладно, — ответил я. — Но не этот. Для начала он, пожалуй, слишком крепок. Принеси коктейль „Баккарди“! — крикнул я Фреду.
Фред принес бокал и подал блюдо с соленым миндалем и жареными кофейными зернами.
— Оставь здесь всю бутылку, — сказал я.
Постепенно всё становилось осязаемым и ясным. Неуверенность проходила, слова рождались сами собой, и я уже не следил так внимательно за тем, что говорил. Я продолжал пить и ощущал, как надвигалась большая ласковая волна, поднимая меня, как этот пустой предвечерний час заполнялся образами и над равнодушными серыми просторами бытия вновь возникали в безмолвном движении призрачной вереницей мечты. Стены бара расступились, и это уже был не бар — это был уголок мира, укромный уголок, полутемное укрытие, вокруг которого бушевала вечная битва хаоса, и внутри в безопасности приютились мы, загадочно сведенные вместе, занесенные сюда сквозь сумеречные времена.
Девушка сидела, съежившись на своем стуле, чужая и таинственная, словно ее принесло сюда откуда-то из другой жизни. Я говорил и слышал свой голос, но казалось, что это не я, что говорит кто-то другой, и такой, каким я бы хотел быть. Слова, которые я произносил, уже не были правдой, они смещались, они теснились, уводя в иные края, более пестрые и яркие, чем те, в которых происходили мелкие события моей жизни; я знал, что говорю неправду, что сочиняю и лгу, но мне было безразлично, — ведь правда была безнадежной и тусклой. И настоящая жизнь была только в ощущении мечты, в ее отблесках.
На медной обивке бара пылал свет. Время от времени Валентин поднимал свой бокал и бормотал себе под нос какое-то число. Снаружи доносился приглушенный плеск улицы, прерываемый сигналами автомобилей, звучавшими, как голоса хищных птиц. Когда кто-нибудь открывал дверь, улица что-то кричала нам. Кричала, как сварливая, завистливая старуха.
Уже стемнело, когда я проводил Патрицию Хольман домой. Медленно шел я обратно. Внезапно я почувствовал себя одиноким и опустошенным. С неба просеивался мелкий дождик. Я остановился перед витриной. Только теперь я заметил, что слишком много выпил. Не то чтобы я качался, но всё же я это явственно ощутил.
Мне стало сразу жарко. Я расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. „Черт возьми, опять это на меня нашло. Чего я только не наговорил ей!“
Я даже не решался теперь всё точно припомнить. Я уже забыл всё, и это было самое худшее. Теперь, здесь, в одиночестве, на холодной улице, сотрясаемой автобусами, всё выглядело совершенно по-иному, чем тогда, в полумраке бара. Я проклинал себя. Хорошее же впечатление должен был я произвести на эту девушку. Ведь она-то, конечно, заметила. Ведь она сама почти ничего не пила. И, прощаясь, она как-то странно посмотрела на меня.
— Господи ты боже мой! — Я резко повернулся. При этом я столкнулся с маленьким толстяком.
— Ну! — сказал я яростно.
— Разуйте глаза, вы, соломенное чучело! — пролаял толстяк.
Я уставился на него.
— Что, вы людей не видели, что ли? — продолжал он тявкать.
Это было мне кстати.
— Людей-то видел, — ответил я. — Но вот разгуливающие пивные бочонки не приходилось.
Толстяк ненадолго задумался. Он стоял, раздуваясь.
— Знаете что, — фыркнул он, — отправляйтесь в зоопарк. Задумчивым кенгуру нечего делать на улице.
Я понял, что передо мной ругатель высокого класса. Несмотря на паршивое настроение, нужно было соблюсти достоинство.
— Иди своим путем, душевнобольной недоносок, — сказал я и поднял руку благословляющим жестом. Он не последовал моему призыву.
— Попроси, чтобы тебе мозги бетоном залили, заплесневелый павиан! — лаял он.
Я ответил ему „плоскостопым выродком“. Он обозвал меня попугаем, а я его безработным мойщиком трупов. Тогда он почти с уважением охарактеризовал меня: „Коровья голова, разъедаемая раком“. А я, чтобы уж покончить, кинул: „Бродячее кладбище бифштексов“.
Его лицо внезапно прояснилось.
— Бродячее кладбище бифштексов? Отлично, — сказал он. — Этого я еще не знал, включаю в свой репертуар. Пока!.. — Он приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные уважения друг к другу.
Перебранка меня освежила. Но раздражение осталось. Оно становилось сильнее по мере того, как я протрезвлялся. И сам себе я казался выкрученным мокрым полотенцем. Постепенно я начинал сердиться уже не только на себя. Я сердился на всё и на девушку тоже. Ведь это из за нее мне пришлось напиться. Я поднял воротник. Ладно, пусть она думает, что хочет. Теперь мне это безразлично, — по крайней мере она сразу поняла, с кем имеет дело. А по мне — так пусть всё идет к чертям, — что случилось, то случилось. Изменить уже всё равно ничего нельзя. Пожалуй, так даже лучше.
Я вернулся в бар и теперь уже напился по-настоящему.
IV
Потеплело, и несколько дней подряд шел дождь. Потом прояснилось, солнце начало припекать. В пятницу утром, придя в мастерскую, я увидел во дворе Матильду Штосс. Она стояла, зажав метлу под мышкой, с лицом растроганного гиппопотама.
— Ну поглядите, господин Локамп, какое великолепие. И ведь каждый раз это снова чистое чудо!
Я остановился изумленный. Старая слива рядом с заправочной колонкой за ночь расцвела.
Всю зиму она стояла кривой и голой. Мы вешали на нее старые покрышки, напяливали на ветки банки из-под смазочного масла, чтобы просушить их. На ней удобно размещалось всё, начиная от обтирочных тряпок до моторных капотов; несколько дней тому назад на ней развевались после стирки наши синие рабочие штаны. Еще вчера ничего нельзя было заметить, и вот внезапно, за одну ночь, такое волшебное превращение: она стала мерцающим розово-белым облаком, облаком светлых цветов, как будто стая бабочек, заблудившись, прилетела в наш грязный двор…