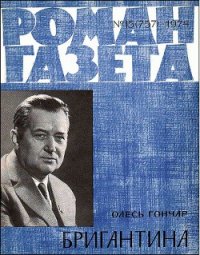Повести и рассказы - Гончар Олесь (книги онлайн полные версии бесплатно TXT) 📗
— Стреляй, Павел, — подзадоривают меня, — стреляй, не то поднимутся и улетят!
Но хотя перед нами и не дикие, а пекинские утки и не дикие охотничьи угодья, а лишь искусственный колхозный водоем, однако уже один вид плавающей птицы, зрелище воды, камышей, распаляет наше воображение, и мы долго не можем успокоиться.
Где же наконец Чары-Камыши?
Кажется, нам надо уже сворачивать с большака в сторону Днепра. Повороты идут один за другим, из кабины выглядывает изуродованное шрамами лицо нашего водителя Павловского.
— Где поворот?
Никто из нас этого точно не знает, невнятно что-то бормочет и сам обер-мастер, который, оказывается, заходил на Чары-Камыши не отсюда, а добирался пешком, с другой стороны…
Выручает нас женщина, берущая воду у колодца при въезды в село.
— Вам на Чары-Камыши? — переспрашивает она добрым, приветливым голосом и неизвестно почему улыбается. — Так вот же на этот шляшок… Это шляшок и приведет вас к самому месту.
Мы пьем воду из ее ведра, набираем еще и в баклаги, потом сворачиваем на едва заметный, убеленный солончаками шляшок, и он ведет нас куда-то в луга, где далеко-далеко на горизонте мглисто синеет за Днепром, дымит заводскими дымами наш родной город.
В небе, чистом, серебристом от солнца, уже проплывают аисты, летают степные чайки; чаек очень много, они подлетают к нам совсем близко, и Степа-бригадир суровым тоном предупреждает меня, что бить их нельзя, что убить чайку — стыд и позор для охотника.
— А цаплю?
— Цаплю тоже нельзя.
— А дрофу?
— Дрофу… Ни в косм случае.
Обер-мастер ухмыляется, прислушиваясь к нашему разговору.
— И того нельзя, и того, и этого… Ты так совсем запугаешь парня, обращается он к Степану. — А ты скажи ему, что же можно.
— До начала открытия, — инструктирует меня дальше Степа, — хотя бы и на нос тебе садилась утка, терпи. А то есть еще и среди нашего брата… всякие есть.
И с сознанием своих высоких бригадирских обязанностей он подробно объясняет, за что с меня будет причитаться штраф, за что еще больший штраф, а за что, может быть, и ружье отберут, с позором выгонят из общества. И это все предназначено мне, едва только взявшему ружье, не убившему ни одной, самой глупой утки!
Шляшок побежал через пастбища, тырловища, солончаки. То тут, то там виднеются колодцы с высокими журавлями — водопои среди пастбищ. Мы почти разочарованы: вокруг какие-то пустыри, чертополох, безжизненные луга, все выбито скотом, сожжено жарой… Где же озера светлые, угодья нетронутые?
— Обождите, все будет, — успокаивает нас обер-мастер.
Он уже сориентировался в здешних местах и, заметно оживившись, перебрался ближе к кабине, чтобы давать указания шоферу.
— Хуторок вон с башней видите?
— Видим.
— То силосная башня на колхозной ферме. А за фермой будет мостик. Переедем мостик и будем держаться правее, в сторону того вон кургана.
В самом деле, за хуторком есть мостик, он лежит у самой земли, перекинутый через какое-то болото, от которого бьет в нос густым запахом нагретой солнцем воды.
Мостик совсем разбит, машине по нему не пройти, и мы, соскочив на землю, ищем объезд. Объехать негде, что же делать?
— Давай на риск!
— Если засядешь, вытолкнем, нас ведь много!
Водитель берет отчаянный разгон, машина, разбрызгивая воду, доезжает до середины болота и там все-таки застревает, мотор глохнет, но мы уже здесь, наши охотничьи плечи готовы хоть гору перевернуть.
— Раз, два — взяли!
И вот забрызганная наша полуторка — не чудо ли? — стоит уже на сухом, а мы в грязи как черти, от нашей обуви несет запахом горячего развороченного болота.
Пока Павловский копается в моторе, протирая свечи, мы тоже приводим себя в порядок, счищаем с одежды и обуви налипшую грязь, и обер-мастер Сахно, оглядываясь назад, говорит, что это, пожалуй, даже лучше.
— Что «лучше»? — улыбается инженер, — Что мост дырявый?
— Зато сюда теперь никто не проскочит, — объясняет обер-мастер. — Одни будем на всю плавню.
Ой, вряд ли одни!! Далеко за селом, мелькая за стадами, среди голых пастбищ, уже рыскают какие-то мотоциклы, появляются «Москвичи», кажется, именно из тех, что мы обогнали в дорого. Вот один из «Москвичей», словно пронюхав ваш след, мчит на бешеной скорости сюда, приближается к мостику и, ткнувшись носом в болото, с ходу останавливается.
— Там вам и ночевать, — говорит обер-мастер, и мы, отдаляясь, облегченно машем им на прощанье.
Теперь мы одни. Но покамест и уток нет, не видно даже аистов да чаек степных, один громадный коршун над нами кружится, будто удивленный нашим появлением здесь.
— А коршуна бить можно, товарищ бригадир? — насмешливо спрашивает обер-мастер.
— Бейте, если попадете, — отвечает Степа.
— А думаешь, не попал бы? Думаешь, глаз ослабел? — обер-мастер допрашивает Степу обиженно, с какой-то ревнивой усмешкой на устах.
На работе обер-мастер для Степана — начальство, а тут они вдруг поменялись ролями: старик сам очутился в подчинении у своего крановщика, нашего демократично избранного бригадира. Такое положение настораживает обоих, но общая цель в конце концов их также объединяет одной заботой. Найдем ли мы тут то, чего ищем? Не заехали ли мы в пустые места? Это все больше нас тревожит.
Машина буксует в песке. Вынуждены снова слезать, чтобы подсобить ей плечами.
— Раз, два — взяли!
Нет, это чудесно — провести свой выходной вот так!
Переехав через изрытый скотом песок, выезжаем на холм, и перед нами открываются… поля кукурузы!
Бескрайние, освещенные солнцем поля! Левее от нас трактор гудит, пашет жнивье… Пыль встает за ним. А где же плавни? Где озера?
Бригадир, прищурясь, укоризненным взглядом смотрит на обер-мастера, тот даже теряется, но только на миг.
— Давай прямо вдоль кукурузы! — кричит он в кабину.
Мчим вдоль кукурузы. Часть ее скошена на силос.
— По-моему, никакая утка сюда не залетит, — говорит Костя, вслух высказывая горькие наши сомнения.
В самом деле: фермы, стада, колхозные поля… Где ей тут удержаться?
Солнце заметно склоняется к западу, а мы все еще не можем остановиться. Пожалуй, так и будем как шальные до ночи рыскать по полям.
Вскоре, словно чтобы рассеять наши сомнения, в стороне от кукурузных полей открывается луговой простор с широкими полосами камышей вдали. Наконец-то!
Я с волнением смотрю на этот открывающийся глазу простор.
Как тут свободно, как легко человеку! Птицы какие-то, еле виднеясь, купаются в воздухе. Солончаки пятнами белеют, лоснится на солнце синеватая зелень рогоза, а дальше блестят камыши, и в тех камышах, наверное, ждут нас светлые озера…
— Вот это и есть Чары-Камыши, — гордо выпрямляясь, говорит обер-мастер.
Чары-Камыши, ура!
Машина наша мчится к ближайшей полосе камышей. Останавливается.
Камыши высоченные, густые, словно бамбуковые заросли. Слегка шелестят листьями на ветерке… Соскочив с машины, мы гурьбой бросаемся в заросли, камыши трещат, а мы продираемся дальше, в самую чащу, в духоту, где уже и ветра нет, но где, мы знаем, неизбежно должна быть вода, а на воде, может быть, и сейчас уже сидят стаей… Дух захватывает от одного лишь предчувствия. Однако почему же до сих пор не хлюпает вода под ногами! Где же наконец вода?
Камыш кончается, глазам открывается довольно большая, окаймленная зарослями поляна: очевидно, был когда то тут плес, а сейчас… высохший ил звенит под ногами. Сухо-пресухо. Все дно затвердело, превратилось в цемент.
В недоумении обращаем взоры на обер-мастера. Старик виновато разводит руками. Не дальше как в прошлом году, уверяет он, было воды ему здесь по пояс, даже бредень он тут тянул, и рыбу ловил, и уток набрал, а теперь…
— Тьфу!
Мы верим ему, верим, что была здесь вода и рыба, потому что и сейчас кое-где поблескивают маленькие рыбки в сером закаменевшем дне.
Опустив головы, стоим угрюмой толпой среди высохшего озера, над этой окаменевшей землей, и пот заливает нам глаза. Жара, духота здесь, будто в котле: сквозь камыш даже малейший ветерок не провевает. Степа молча пробует ковырнуть носком неподатливый кусок ила, а Петрович… на нашего Петровича даже смотреть больно: потемневший, убитый горем, молча уставился под ноги, печально рассматривая дно озера, где совсем недавно рыба играла, а теперь твердь земная сереет окаменевшая, похожая на шлак. Еще больше опустились плечи у Петровича, отягченные охотничьим багажом; кепка надвинута на глаза. И так худой, а тут будто еще больше похудел. Какая печаль, какая дума его гнетет?