Паруня - Астафьев Виктор Петрович (список книг txt) 📗
Но вот пришла огородная пора, и ожила деревушка Быковка. Из угарных, скособочившихся изб вышли на свет хозяйки; принялись чинить городьбу, жечь огородный хлам и прошлогоднюю картофельную ботву; кислым дымом из огородов потянуло; за соседней баней проорал руководящим голосом петух, взмыкнула корова, а вон и давно привычный крик слышен: «Парушка! Ты завтре приходи на помочь!..» В Быковке издавна все делается артельно. Поодиночке женщинам было бы с жизнью не совладать. Первой в работе, любой, особенно которая потяжелее, всюду была и есть Паруня, попросту Парушка — это она вот копала землю за речкой, помогала бабушке Даше.
В грузно шагающей женщине, как бы остановившейся в одном возрасте, уже трудно угадать ту голенастую, румянощекую девку, которая, таясь от зорких бабьих глаз, не переставая править крестьянскую работу, выносила ребенка и однажды потихоньку родила его, спрятавшись на сеновале. Ослабевшую, перед всеми виноватую, но просветленную во взгляде, нашли ее бабы. «Дура ты, дура! — сказали ей. — Да нешто с этим делом прячутся?!» И увели молодую мать в тепло, в избу.
Да не сулил, как говорится, Бог долгого веку дитю Паруни. Одна она скоро осталась, ходила молчаливая, смотрела в землю. И по сию пору придавившая ее в молодости сутуловатость осталась, горбистей спина сделалась да ровно бы вытянулись большие руки с кривыми пальцами, навсегда уже сведенными в горсть пашенной работой и простудой.
От кого было дите, куда девался тот ухорез, что искусил молодую девку, — бабы никогда не узнали, хотя пытались, ох как пытались это сделать, — первая и последняя любовь Паруни была и осталась для всех тайной. Я иной раз глядел на нее и в чем-то, где-то угадывал — она не забыла о голеньком дите и о летучей любви, дорожит этим воспоминанием и оттого никому его не доверяет.
Больше ничего выдающегося к жизни Паруши не случалось. Наведывались, конечно, в гости мимоходные мужики; старый пасечник одно время наладился угощать Парушу медом, да и сам я слышал и видел, как заливалась она громким смехом и вертелась возле таганка, на котором клокотало варево, когда было брошено в заречные места на копку картошек одно бравое саперное войско, и носатый сержант в начищенных ваксой сапогах, со множеством значков на гимнастерке, все норовил ущипнуть Паруню, а она взлягивала, отбиваясь от наседающего воина: «Да подь ты к чёмару, лешой!»
Родилась и выросла Паруня в Быковке. Трудиться стала с четырнадцати лет, потому что рано осиротела. Войну она встретила уже взрослой девахой, работала, как все колхозники, дни и ночи, не разгибаясь, в старой телогрейке, в лаптях, которые зимою часто примерзали к ногам. «Паруша, война идет. Надо фронту мясо», — говорили ей. Надо так надо. Силой Бог не обидел, раденье от природы, а тут еще бабы свои, родные все, как им не подсобить? «Паруша, подежурь за меня, ребенок заболел…», «Паруша, съезди в лес по сено, корова падает…», «Паруша, помоги напилить дров…», «Паруша, погрузи мешки — у меня поясница отнялась…», «Паруша, вывези назем…», «Паруша…», «Паруша…», «Паруша…».
Не было у нее мужа на фронте, и сына не было на фронте, перед всеми она в долгу, перед нею — никто. Ей как бы самой жизнью было заказано прибегать к бабьему средству — слезам, и вообще всякое облегчение, жалость, сочувствие вроде бы на нее не распространялись, они ровно бы и отпущены ей судьбою не были. И один раз, один только раз разревелась она в войну: пришла к Даше, тогда еще не бабушке, а ладной, крепкой, доброй женщине, та печь затопила, велела Паруше раздеться, лопоть и обутки посушить — ростепель, слякоть как раз была. Сняла Паруня свои в прах разбитые латки, портянки размотала и приморилась возле печи. Старший Дашин сын в избу ввалился, в печь дрова подкладывать взялся, видит — старье, хлам какой-то мочальный к печке прислонен — он и его в огонь.
Проснулась Паруня, за голову схватилась: «Ой, в чем же я на работу-то пойду?!» Поначалу все оторопели — Паруша ревет. Пошли женщины к колхозному начальству походом и за грудки его. Помогло. Обули Паруню, и она, поблагодарив товарок за хлопоты, снова впряглась в работу, пуще прежнего старалась всем помочь. Когда, где спала она в ту пору и спала ли вообще — никто не знал.
Выдавали Паруне за работу мясо, муку, деньги. Брат родной жил с семьею в Быковке же. Паруня весь свой паек тащила в дом брата — с войны он вернулся израненный, больной туберкулезом. Золовка не пускала Паруню в дом — вонькая-де, свиньею пропахла. Голодная, замерзшая, придет под окно Паруня, стоит, смотрит, тихонько завывая. Как собачонке, выбросят ей каравай хлеба, из ее же муки испеченный, и дверь захлопнут.
Ах, как любят у нас, особенно по темным углам, обижать безответных людей! Но когда их не станет, когда они уйдут навечно и обнаружится после них пустота и вроде бы потухнет свет в деревенском окне, оплакивают их люди горько, винятся перед ними.
А как умеют и любят у нас, увы, не только по деревням, воротить рыло от тех, кто выполняет грязную работу, забывая, что все на свете идет от земли, растет на земле, а она, между прочим, грязная, и на поля, между прочим, кладут душной навоз, чтоб хлеб родился, картошка, овощи, чтоб есть было чего.
В одном российском городке видел я на воскреснике выразительную картину: современное, стеклобетонное здание института, перед ним в модных штанах, в красивых плащиках, с навойлоченными прическами, разукрашенные, распомаженные девицы мели землю. Как они ее, бедную, мели! Каждая девица старалась держать метлу как можно брезгливей, манерней, то под мышкой, то в одной ручке, обтянутой замшевой перчаткою, то уж и вовсе как-то неприлично — студентки изображали отстраненность от труда и от земли, им казалось постыдным, если подумают, что родители их и они сами только что вот покинули село…
В превосходной книге Михаила Домогацких «Джамбо, Африка!» я вычитал страницы о том, как в многочисленном африканском народе масаев происходит то, что книжно именуется урбанизацией. Побывав в городе, поотиравшись там на должности боя, рассыльного, паче того — на службе, иные масаи начинают пренебрежительно относиться к своему народу, не хотят с ним общаться и узнавать родных. Так ведь масаи-то лишь недавно из колониализма вышли, ведут племенной, полудикий образ жизни. Зачем же будущим-то учителям, выросшим в трудовых семьях, учившимся в трудовых школах, на трудовые копейки народа, не чурающегося ни земляного, ни тягостного ратного дела, уподобляться полудикому племени?..
Впрочем, что корить девушек с филфака — они молоды, и им еще доведется устыдиться своей жеманности. Но вот в Быковке гостил у меня довольно известный писатель, что в книгах своих и в застолье не устает распинаться «за народ». Так вот этот самый «народник» не стал пить из одного стакана с Паруней, погребовал, а я, хорошо его знающий, точно ведаю: Паруня чище его и душой, и телом, м помыслами — и оттого запретил ему бывать в моей избушке.
Со временем Паруня перешла со свинофермы на колхозный телятник, где работать ей было легче, есть у нее и своя изба — крайняя в деревеньке, есть коза, курицы, кошка и кривой на один глаз кобелишка Тузик, который таскался за хозяйкой по пятам и нещадно трепал за уши моего дураковатого пса Спирьку, — только он и был под силу Тузику. По интеллигентской воспитанности Спирька не вступал в драку, лишь грозно рычал.
Стоимость всего хозяйства Паруни где-то в пределах трехсот или пятисот рублей. В диалектике я не силен, политэкономию постичь до глубин так и не сумел. Когда учился на Высших литературных курсах, Ишутину Михаилу Ивановичу — преподавателю политэкономии — говорил на экзамене одно и то же: «Политэкономию знаю на двойку, а надо тройку, чтоб получать стипендию — семья у меня». И преподаватель, добрая душа. за честное признание ставил мне четверку. Но даже при таком слабом знании политэкономии я вот что маракую: Паруня с детства трудится, производит материальные ценности: мясо, молоко, дрова, сено, древесину, и мне хочется знать — куда это все девается?
Однажды я пережил самое настоящее социальное потрясение. Еще утром был в Быковке, а вечером по срочному вызову — в Москве, в гостинице «Украина», устроился жить и пошел в ресторан поужинать. «Мальчики» лет этак тридцать, из тех, что кончили Литературный или другой институт, в красивых пальто, в мохеровых шарфах, в меховых шапках шляются по столице, попивая коктейли или чего покрепче, вельможно рассуждая при этом «за народ», и не спешат жениться, чтобы не уходить от родителей и не кормить свою семью, да разукрашенные девки бесились в ресторане, справляли шабаш по поводу того, что один из них протолкнул-таки «сценарий про рабочий класс». Парни-мужики и курящие девицы выкрикивали что-то хриплое, дикое, по-африкански «выразительно» вертели задами, закатывали глаза в экстазе танца, загнанные официанты разносили по столам еду, какой быковские женщины и в глаза не видывали, вина, какие они сроду не пивали. Сиял свет, гремела музыка, было дымно, чадно, взвинченно-весело. Перед моими же глазами неумолимое и трагичное стояло видение: войной надсаженная, полуразвалившаяся деревушка с темными окнами.



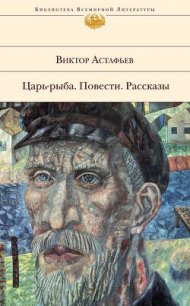
![Поход «Седова» [Экспедиция «Седова» на Землю Франца-Иосифа в 1929 году] - Громов Борис (библиотека книг .txt) 📗](/uploads/posts/books/60047/60047.jpg)