Паруня - Астафьев Виктор Петрович (список книг txt) 📗
Под ногою треснул сучок. Паруня подняла голову и какое-то время смотрела сквозь меня, без испуга и досады, лишь улыбка медленно сходила с ее ярких от земляники губ.
— Ты што, собаку пришел проведать? — спросила меня Паруня. Наш пес, скончавшийся зимой от старости, похоронен на этой горе, но где именно, я не знал. — Вот туды ступай! — махнула Паруня рукой в глубь леса. — Под молоньей сломанной елью увидишь могилку… — И словно бы разом забыв про меня, обтерла травяным вехтем литовку, сняла с нее кровяное крошево и ловко заширкала бруском по лезвию косы, под гребешком которой и у основания белого литовища тоже темнела полоска запекшейся земляничной крови.
Я тихо ушел в леса.
Еще одна весна! Снова путь в привычную быковскую избушку. Снова знакомая пристань. Дебаркадера еще нет. Топаем тропинкой мимо изуродованной, ободранной, медленно умирающей красавицы березы. Надсаженная, мимоходом истюканная топорами, она и в эту весну из последних сил развесила сережки лимонного цвета, ствол ее светился неестественно белым, лунным светом — так у измученных чахоткой, догорающих людей вспыхивает последний яркий румянец на щеках. Тропинка строчит на холм, вдоль поля, утыканного головками пестиков, а их тут охотно собирают на пироги; беловатыми всходами осота и сизыми — сурепки, через ложок, освещенный желтым пламенем калужниц. Заброшенное поле с едва уже заметными темными стерженьками когда-то скошенных хлебов дымится пылью или прахом земли, истаявшей о кореньях трав. Вот и мокрый ложок, как живой первовестник лесов и снега, тающего еще в нем. Взмыл из лужи, метнулся в лес полосатый бекасенок, запричитала на опушке пигалица. Переходим по жердям через ложок и дальше, меж перелесков, по покосу, к нашей милой Быковке.
Вот она, темная, молчаливая. В двух крайних избах нет света, прясла огорода уронены, третья изба от краю с заколоченными окнами. Сжалось сердце: еще кого-то не стало в деревушке. Отчего-то и и Паруниной избе не теплится огонек, не дымит труба.
Жива ли Паруня? Нельзя ей умирать, никак нельзя. Невозможно представить деревню Быковку без нее.
Жива! Увидела дым над нашей избой, и уж тут как тут, тащит из ямы ведро волглых картошек и дородную пегую редьку с желтокудро проросшей во тьме ботвой.
«Здравстуйтё!» — говорит Паруня. Чуждаясь приезжих на первых порах, присаживается у двери на лавку и выкладывает новости, постепенно привыкая к нам и выявляя сыспотиха, не переменились ли мы и наше к ней отношение? Не загордились ли в городской жизни?
Скоро на «дымок» привернут остальные бабенки, и Саня Белканов с молодой женой объявится — в соседнем доме остался хозяином он, Саня. После смерти матери — Марии Федоровны — распалась семья, рассыпалась. И Саню лишь работа пасечника удерживала здесь. Сухонькую, тихоголосую, усмешливую мать Сани все вспоминают тепло и ясно, как живую: никогда и никто не видел ее без дела и никогда и никто не слышал, чтобы пожаловалась она на свою долю, а ведь подняла без мужа своих пятерых да еще сестриных пару. Те так к ней привязались, что мамой, чаще нянькой звали. Почти все белкановские парни стали уже работниками «широкого профиля»: едет который постарше на «Беларуси», глядишь, рядом головенка младшего белеет — старший натаскивает его, и, когда старший в армию отправится, младший спокойно занимает место брата за рулем, на сенокосилке, в кузнице, на комбайне.
Лежит Мария Федоровна под еловым крестом на маленьком, в хвойном лесу запавшем кладбище, опетая птицами. Отработала женщина за десятерых, оставила миру трудовых детей, успокоилась, отдыхает, но с тайным душевным трепетом думают ее товарки о последней, трогательной, всех изумившей воле, которая, если раздуматься, была для нее естественной, и все ее поведение перед смертью лишено было какой-либо позы и истерики, так ныне распространенных.
Она уже должна была умереть, но пришла телеграмма в больницу, что Витька — сын сестры, ну это все равно что ее сын, возвращается из армии. И Мария Федоровна собралась с силами, дождалась солдата, поговорила с ним спокойно, без слез и жалоб, перекрестила на прощание и через час преставилась, давши перед этим наказ, чтобы обрядили ее в подвенечное платье — она лишь и последний час созналась, что там, в другом миру, надеется с Васей, своим мужем, на войне убитым, встретиться и хочется ей нарядной быть и молодой.
У Паруни усадьба сотворена на бабий манер — два огорода под одной строчкой городьбы. Но вот уехала подружка ее, Дуська Копытова, на другую сторону водохранилища, в совхоз, развалила городьбу — полым-поло вокруг. В деревне три козьих блудливых семьи и один мужичонка — Саня Белканов, но он с восхода до заката на пасеке. Пришлось и мне вспомнить, что был и я когда-то мужиком, топор, пилу в руки — и в лес, помогать Паруне.
Валим с ней дерева на столбики, кряжуем их. Напарница таращится на меня примутненным усталостью глазом: «Видать, в лесу-то рабливал?» — «С девяти лет, Паруня, на увале дрова ширикал. Дед Илья потянет пилу, я за ней впробеги…» — «И я тоже, и я тоже…» — квохчет Паруня и предлагает попить кваску. Садимся на сдобно желтеющие пеньки. Птичий грай вокруг, лист нарождается, по сырому логу, окропленному белыми брызгами доцветающих ветрениц и синих хохлаток, тянет прохладой, освежает спину и лицо, от речки Быковки, что рокочет внизу, доносит горьковатостью черемух, набравших цвет. Несмотря на полдень, все еще там и сям поют соловьи, не выдохлись, не устали петь за ночь. Густо, сварливо трещат дрозды, гоняясь друг за дружкой, кукушка вкрадчиво, пробно кукует в глуби лесов, и всякая тварь, всякое существо подает голос, заявляя о себе, и если не голосом, так вон вроде рыжей бабочки — нарядом своим удивляет либо жужжанием крыл, как стригун, кружащий над нами. Трава, остро поистыкавшая мокрый лог, устланный прошлогодним пегим листом, и удивлять никого не хочет, она просто лезет на свет, потому что весна, и надо ей поскорее занять свое место на земле, вырасти, отшуметь, отцвести и успокоиться луковкой обновленного корня.
Паруня распустила платок, молчит, уронив меж колен руки, побитые топором, с крупно выступающими костями. Как у многих пожилых женщин, добрый и усталый взгляд направлен мимо всего, что есть поблизости, — запредельное, уже нездешнее успокоение и умиротворенность запали в ее душу, завладели ею.
Вдруг, очнувшись, начинает Паруня рассказывать о том, как в войну работала на лесозаготовках, от колхоза посылали. «Тяжело было?» — «Ничо-о-о, здоровая была. Это сейчас ноги не держат. Несла тут от соседки решето с яйцами, бух в сугроб — все яйца перебила, корова этакая!»
Идет работа. Я таскаю столбики — Паруня валится под столбиком. Перевожу ее в сучкорубы. Огромным острущим топором орудует Паруня, опасаюсь, кабы сослепу по ноге не тюкнула. В очередной перекур отчего-то начинает она вспоминать, кто жил в нашей избушке прежде, и память ее выхватывает неожиданное; какой-то Колька из нашей избы прятался в лесу, землянка у него там была, ночами он тащил со дворов съестное. Однажды застукали его в белкановской бане, отстреливаться взялся, его ранили в голову. По Быковке вели кровищей залитого. Все люди, от мала до велика, на улицы высыпали. Стрелки, уводившие дезертира, сказали Паруне: «Не смотри, деушка!»
Рассказала и рассказала случай из жизни, сама-то она никогда и ничего не скрывала от людей — ни крошки хлеба, ни мысли дурной ли, хорошей ли — все, что знала, делала, — ведали люди, и до сих пор не может она понять, почему прятался от людей этот Колька, почему утерял сам себя и жизнь свою?
Доцветает черемуха по Быковке; купава на солнцепеках и широких полянах желтыми лепестками плачет; первоцвет сорит семенем на траву; давно облетела и незаметной сделалась синяя медуница; запекся алый цвет дикого горошка; саранки высунулись из кустов утиными клювами, готовыми вот-вот ярко открыться; по склонам марьины коренья вспыхнули; земляника бородавкой ягодки из сухого цветка глядится; шиповник розово набух; папоротники в лесах пышно распрямляются; заливные луга сплошь высохли, густотравьем покрылись; в шишечках трав раньше всего у ромашек, змеевика и гвоздики накипал летний неторопливый цвет.



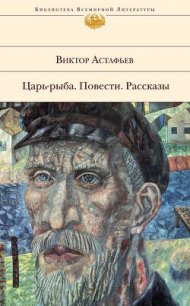
![Поход «Седова» [Экспедиция «Седова» на Землю Франца-Иосифа в 1929 году] - Громов Борис (библиотека книг .txt) 📗](/uploads/posts/books/60047/60047.jpg)