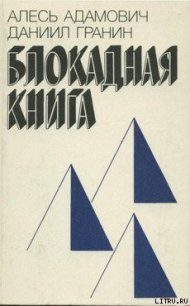Каратели - Адамович Алесь Михайлович (книги читать бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
А за это сын получил последнюю порцию обиды. Тут уже что-то сделалось с матерью. Закричала, залилась злыми слезами — будто на ту самую «немецкую каторгу» сын их гонит.
— Ни-ни! Хочь рижь — не пидем!
И видно было, что, только связав их, можно переселить в еврейскую квартиру.
— Ничого нам не трэба! За що, господи, за що!
А когда уже прощались — все эти разговоры велись, конечно, когда Поль спал пьяный или уходил куда, — батька вдруг выпалил:
— Нехай тэбэ нимци краще убьют, сыну, нэхай лучше вони! Чым свои, так краще нимци.
А мати тут же стояла и плакала, и видно было, что согласна, что давно про это шептались они. Сговорились, как дети.
— «Краще»! «Свои»! Какие «свои»! Породнились!
— Ты, сыну, дослухай. Нам все одно плакать. То краще — хай нимци.
— Забыли все! Мало вам було Сталина, мало с голоду сдыхал, дрожал? Забыли!
Но что им объяснишь, если они тебя живого хоронят! Чешут, как по бандитской листовке…
— Ну ты, бандюга! — Мельниченко хлестанул коня, который сбился с ноги. — И ты еще!
Из кустов вышел навстречу усатый шарфюрер, Мельниченко крикнул ему, чтобы вел взвод к сараю, немедленно! И помчался туда сам, стороной, краем поля, где не мешают убитые, не пугают коня. А возле сарая уже пальба, и дым встал, уже подожгли. Поль распоряжается там. Но солдат стало намного больше. Кто такие? Может, и правда, вмешался Муравьев. Подскакал, и первый, кого увидел, — Белый! Тот самый москаль, которого Муравьев тащит в гауптшарфюреры. Который целый взвод увел от Мельниченко. И он набрался наглости прийти помогать, распоряжается тут…
— Кто звал? Кто прислал?
Ах ты! Он даже не смотрит! Мельниченко привычно поднял плеть, еще не думая, что ударит… Поднятая рука аж заныла сладко от ожидания, как он его сейчас охлестнет, с потягом, по-казацки. Достал! И красный, горячий рубец вспыхнул на щеке Белого!
Пока конь, бандитская морда, плясал, отступая от пламени, выбросившего черный дым, Мельниченко потерял глазами своего врага, а когда снова к нему повернулся, у того в вытянутой руке уже чернел пистолет. Что он хочет делать, боже? Что это он! Как это может быть? Это он выстрелил в меня? В руку удар! В бок! В меня, боже?.. Боли нет, только немота и ожидание нового удара, и ужас, и неверие, что это происходит. С ним происходит! Ну, ось, мамо, ось хотила ты! Вы хотилы того! Як хотилы, так и выйшло, сын ваш помер…
Белый вгонял пулю за пулей в своего недавнего командира — будто все в нем собралось! — всю обойму разрядил, пока тот клонился, падал с коня. В общей пальбе, криках, треске черного пожара никто, и Белый тоже, не услышал выстрела, которым бородач—«западник» в упор свалил Белого.
Из стального кузова бронетранспортера бил по сараю из вздрагивающего, но почему-то онемевшего пулемета Поль — это еще увидел Мельниченко…
Из документов известно, что Иван Мельниченко лежал в немецком госпитале почти полгода, а когда вернулся в батальон, вместо роты получил взвод — ротой командовал уже другой гауптшарфюрер. В 1944 году увел двадцать человек в лес — когда уже фронт подходил. Из партизанского отряда тут же убежал, скрывался в Карелии. Затем перебрался в Киев. Прятался на чердаке своего дома. Пришел уполномоченный с понятыми делать обыск, полез на чердак — Мельниченко выстрелил в него и убежал. Жил в балках, выходил на дороги и забирал, что у кого было съестного. Набрела на него спящего женщина с козой (Надя Федоренко), он выдал себя за дезертира. Много раз приводила козу, доила в балке, приносила хлеб. Через нее переправил властям письмо-обращение: «Я виноват, ловите меня. Родители за детей не отвечают!» Сочинил автобиографию и тоже переслал. Очень чувствительно описал, как весь мир перед ним виноват за все, что он, Мельниченко, делал, приходилось ему делать. Очень поверил в силу своей логики, правды и сам явился в НКВД — следом за письмом. Из поезда, когда его перевозили, удрал. Еще месяц жил, двигаясь по направлению к лесным краям. Был убит в Белоруссии.
ПОСЕЛОК ПЕРВЫЙ. 11 ЧАСОВ 53 МИНУТЫ ПО БЕРЛИНСКОМУ ВРЕМЕНИ
Гриша сорвал черную тряпку и смотрится в зеркало. Я так и знала: там зеркало, и ничего больше! А что еще может быть? Почему я все думаю, жду, что вот-вот страшное должно открыться? Он смотрит, смеется, зовет меня. Почему он смеется: ведь это она, та женщина, я так и знала! Та самая… Ползет по снегу, поднимается на колени, упадет и ползет, разбрасывая пятна крови. Ничего не может выговорить, рот у нее разбит, разорван, лицо заплыло кровью. Что-то написать на снегу пытается, пятнает его кровью, вскидывает красную руку, показывает туда, откуда прибежала…

ПОСЕЛОК ПЯТЫЙ
Из показаний Муравьева Р. А. (1971 год):
«Август Барчке был фольксдойч, из местных немцев, командовал ротой местных полицаев. Ядром роты Барчке стал кличевский гарнизон, которым он прежде командовал и который убежал от партизан в Могилев, был разогнан ими. Как я уже сказал, Барчке был фольксдойч, невысокий такой, толстоват и в очках, возраст — лет сорок, не более…»
… Август Барчке, или, как называют его полицаи — Барчик, страдал. Его постоянно мучил стыд, постоянно. Стыдом одержим человек, как другие постоянным насморком. Непреходящее это чувство в нем — смущение, стыд перед Германией, которая пришла как бы специально ради него в Кличев, в Могилев. Вот и сюда, в Борки. И теперь видит его среди тех, с кем он жил, кем командует, а с ними только стыда наберешься, конфуз на каждом шагу. Обязательно не так все сделают или вовсе ничего не сделают, не выполнят, нарушат. Не знаешь, от кого больше зла, беспокойства: от тех, кто в сарае, не хотят выходить, не слушаются, или от своих полицаев, которые все не так, все по-дурному, по-пьяному!.. Не кончили, второй, самый опасный, «мужской» сарай еще не очистили, а многие уже смылись, побежали к ульям — «пчелок бомбить», как это у них по-дурному называется. Барчке бросился за ними — гнать, лупить, и его же искусали пчелы. Щека как деревянная, губы вывернуло, сделались, как у деревенского дурачка, глаза не видят… Теперь похихикивают со стороны. Нашли себе забаву, только бы не работать. А тут, как нарочно, штурмбанфюрер нагрянул, стоит там у песочного карьера, куда мужиков гоняют стрелять.
Таким его и увидел Тупига — своего гауптшарфюрера. Как очки еще держатся! Носик провалился, пальцами не вытащишь из распухших, глянцево-красных щек. Медку попробовал, господин Барчик? На здоровьице!
— По вашему приказанию явился, господин гауп…
— Тебе во сколько было приказано? А ну иди к яме!
Туда, к яме, выстроены две шеренги немцев, по этому коридору и водят из сарая. Немецкая рота работает, а Барчик в придачу. Его люди заняты амбаром, доставкой «снопов» к яме. Нет, не амбар, скорее мастерская тут была, ремонтная, наверное. Шестерни, железки валяются в вытоптанной траве, стены в мазутных пятнах, кривые надписи: «Не курить», «Курить только свои» и какой-то «Федя» — два раза. Тупига постучал носком сапога по ржавому колесу, ковырнул торчащий из земли кусок приводного ремня. Вот таким когда-то свернуло шею Тупиге: почти беззвучно ремень лопнул, когда он наклонился к мотору, обожгло под ухом, взвилась черная змея перед глазами, и стало темно-темно и затошнило… А Барчик, когда в Кличеве работал, тоже с ключами и в мазуте бегал, отличался от всех лишь тем, что носил деревянную обувь — трепы. Оказывается, это немецкое слово: трепы. Цок-цок-цок! — шустренький, старательный, а чтобы выпить, даже в праздник — ни-ни-ни! Потом стал начальником районной полиции. Когда пугнули, когда с печи всех полицейских кличевских согнали партизаны, был уже в сапогах. В трепах своих не удрал бы. А Тупига не дурак, он заранее перебрался из Кличева в большой город, в Могилев, в настоящую полицию. Ни печи, ни стен у него никогда не было — не цеплялся до последнего, как эти куркули. Вот улепетывали!