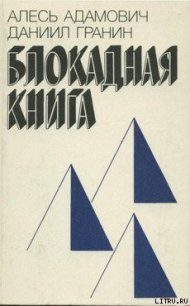Каратели - Адамович Алесь Михайлович (книги читать бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
А жить надо, пока живой.
Когда-то «жить» — означало побыстрее вбежать в завтрашний день: вырасти, из села поехать учиться в большой город, найти дело, которое не наскучит за целую жизнь, и такую же, на всю жизнь, женщину… И все это было тогда впереди. И вот оно что впереди ждало!..
Когда-то собирался стать учителем. Правда, еще раньше мечтал стать военным. В пединститут поступил потому, что все Муравьевы — не только отец и мать, но и две тетки — учителя.
А тут стали забирать из институтов в армию, взяли и его, в училище, и он пошел охотнее многих.
Когда ахнуло: «война!», Слава Муравьев не мог скрыть молодого возбуждения, почти торжества: кто сейчас нужнее горячих стойких лейтенантов?! Кадровых военных осталось маловато, да и доверие к ним подорвано.
Но их училище все держали под Москвой, все доучивали, как будто они не умели, не сумели бы главное сделать: умереть, чтобы врага не пустить дальше. Уже Минск, уже Гомель пали, сводки называли цифры вражеских потерь в людях и технике, и невозможно было понять, как немцы все еще способны наступать.
В конце августа курсантов собрали, они сидели в большом зале бывшего института и дожидались какого-то важного сообщения. Ну, наконец-то!.. А им зачитали странный приказ: об ответственности семей военнослужащих за перебежчиков и сдающихся в плен… Муравьев помнит, что он никак не мог связать этот приказ с собой и своими близкими. Плен? Что за ерунда! Как это возможно?
Наконец лейтенантов и младших лейтенантов распределили по частям, только что сформированным, погрузили в эшелон и ночью повезли на запад. Без конца просыпался. И не от ожидания новых бомбежек (они его совсем не напугали), а от волнения, что наконец едут — навстречу загадочному и грозному, что называется «фронт», «бой». Уснул, и показалось, что поезд тут же остановился, за окном тяжело пробежали, прозвучала команда: «Высаживаться! Быстро! Быстро!» Утро тускло озарялось вспышками, совсем недалеко погромыхивало. Даже пулемет слышен был. Посыпались из вагонов, стали стаскивать с платформ орудия, сводить лошадей. А кто-то уже распорядился, и командиры молодыми зычными голосами уводили людей в поле, растягивали в цепь: «Вперед! Вперед!» Прямо в бой въехали на поезде — вот чудеса-то! Слава Муравьев нетерпеливой подбежкой вел свой взвод навстречу бою, врагу, зная, что это высшие мгновения его жизни: не обошла судьба, не обделила!
Тяжело было с полной выкладкой двигаться по овсу и вике, полегшая от недавних дождей зелень вязала ноги, ее рвали яростно мокрыми от росы сапогами и ботинками: так и должно быть, так тяжело и должно быть, и такое общее, грозное дыхание, именно грозное, и уже крик — далеко справа, слева: «За Сталина! За Родину!» Побежали. Лейтенант Муравьев, опережая политрука роты, подхватил, распростер над цепью, как знамя: «Впе-ред! За Сталина!» Закричали «ура!».
Тут бы навалиться на врага, смять, растоптать и гнать, гнать! Но впереди лишь кустики темнели, редкие полевые груши да конь — его все увидели, казалось, одновременно — спокойно стоял под деревом, дожидаясь, когда ему снова захочется опустить морду в росную зелень.
Уже что-то поняли, снова перешли на шаг, но команды зазвучали резче, требовательнее. Шорганье голенищ и обмоток, звяканье металла, торопливое дыхание сотен людей все еще отталкивали правду, отдаляли миг общей догадки и стыда, неловкости и, как ни странно, облегчения… Эти длинные и несуразно торчащие штыки, эти молодые выкрики командирские, — а до немцев, до передовой, может быть, пять километров! — вот-вот разрядится все смехом и разносом «при подведении итогов занятий». Но подводить итоги должен был бой, который никуда не делся, поджидал впереди.
Навалился он в этот же день, шесть часов спустя, ошеломил неожиданный, хотя, казалось, ждали, готовились к нему, и длился не то пять минут, не то сто суток. Что-то выкрикивали люди, отдавались команды, но на самом деле командовали грохот и рев железа, крики боли и ужаса, а когда окончилось все и немецкие танки ушли куда-то в сторону, к железной дороге, Слава Муравьев лежал в полузасыпанном окопчике, ощущая на ногах и спине жуткую, но спасительную тяжесть сырого песка, и слушал вырывавшийся из земли — из других окопчиков и по всему косогору — разноголосый крик, из которого свечкой — как из детского больного бреда — вставало одно слово: «Мама!»
Восемнадцати-двадцатилетние, раздавленные гусеницами, разорванные железом, звали на помощь одного-единственного человека, все — одним словом. Других слов уже не помнили.
Странно, но это никогда потом не вспоминалось с насмешкой, горьким презрением, — первый бой и детские крики: «Мама!» Хотя многое, очень многое помнится именно так.
Бойцы и лейтенанты с винтовочками, редкими полуторками, сорокапятками, откуда-то выныривающие и пропадавшие старшие командиры с «эмками», танкетками — вот и все, что запомнил Слава Муравьев, что металось перед мощно накатывающейся чужой силой.
Немецкая армия захватила не только половину европейской России, она в душу вломилась, тесня, вытесняя то, что было (думалось — навсегда!) в нем, Славе Муравьеве. Первый бой был лишь началом, и даже не самым нелепым и бестолковым. Какое-то барахтанье, жуткое и беспомощное, в неверном, в кровавом болоте. Остался без взвода, потом командовал ротой, чужой, а потом снова без людей, никто, и тут же, через три дня, уже исполнял обязанности начальника штаба полка. Он все пытался быть командиром и искал, чтобы кто-то сильнее его, опытнее, дальновиднее, кто-то был бы над ним, ну, хоть кто-нибудь! Как истово верующий к богу, тянулся он всей душой туда, где привычно всегда находился человек, от которого исходили порядок, власть, воля, порой непонятно жестокая, но такая желанная теперь. Но как раз теперь она и не ощущалась, зато привычное бессилие перед чужой волей осталось, и оно лишало многих, слишком многих желаний и готовности брать на себя ответственность.
А накатывающаяся сила, казалось, распоряжалась самими обстоятельствами. Она действовала методично, направленно и широко — по всему фронту. Сила эта накапливалась то там, то здесь, и там и здесь одновременно, и била, гнула и снова перла вперед.
Четкой, отлаженной машины, для которой его шлифовали, Слава Муравьев не обнаружил, не мог никак ее отыскать и лишь цеплялся за какие-то колеса, колесики ее. И вот последний его бой. Если это может называться его боем. Немецкие танки навалились, настигли, как и в первом бою, неожиданно. Господи, сколько она длилась, та первая внезапность, — не часы, не дни, а все время, пока воевал лейтенант Слава Муравьев, несколько месяцев! Внезапность — не в нем ли самом она гнездилась?..
На этот раз танки двигались в сопровождении автоматчиков, огонь трассирующими был такой, что, казалось, трещал, пылал сам воздух. Это уже было какое-то автоматное хулиганство. Начштаба полка Муравьев (какой там полк — ошметки взводов!) выскочил прямо из-под разлетающихся бревен, из-под падающей крыши — в его штаб угодило сразу два снаряда, в два угла — и пытался задержать бегущих бойцов, полз вместе с ними, пластался в грязи под сумасшедшим огнем. Вдруг коня увидел за сараем, кавалерийского, оседланного, на привязи. Задом так и ходит, дрожа всей кожей, чернолоснящейся, взбил копытами землю, пытаясь порвать поводья. Замелькало в памяти, в сознании измазанного грязью лейтенанта Муравьева знакомо прекрасное, волнующее: черное крыло бурки, отрывающее от земли, поднимающее из грязи!.. Подполз, вскочил на ноги, еще выстрелил из-под коня по мелькнувшей на огороде немецкой фигуре и бросился к стременам. Одной рукой за луку, второй, в которой пистолет, за гриву, оттолкнулся правой ногой от земли, а левая вместе со стременем ушла коню под брюхо. Не затянута подпруга! Беспомощно повисший, он слышал, как пули с плотоядным чмоканьем впивались в конское брюхо — с противоположной стороны. Падая и опрокидывая на себя коня, он еще заметил невысокого немца, который откинулся на полусогнутых ногах и сечет, сечет из автомата…
Тут его и взяли. Немец появился откуда-то из-за спины, крадущейся походкой — точно он все время выслеживал именно Славу Муравьева. Муравьев лежал, как прижатая сапогом лягушка — животом к земле. Теплая кровь из лошадиной туши натекла под задравшуюся гимнастерку, липко намочила спину, бока. Он вертел головой, поднимал лицо, чтобы не пропустить, когда в него выстрелят, не прозевать свою смерть — большего ему уже не дано было. Немец, обидно маленький, в очках, похожий на аптекаря или бухгалтера, носком сапога потрогал вытянутую морду коня, но глаза его и дуло автомата неотрывно смотрели Муравьеву в лицо. «Ну что, убьем тебя?» — Муравьев может поклясться, что немец это сказал, хотя голоса его не помнит. Чужой согнутый палец лежал на крючке автомата, готовясь это проделать. Но зачесался вытянутый острый нос немца: он поправил очки, потрогал себя за кончик носа. И тут рука немца рванулась назад к автомату, глаза испуганно отпрянули. Сапогом со всего маху ударил лежащего по локтю — в голове у Муравьева заискрило, а когда нормальный свет к нему вернулся, у немца в руках был его ТТ. Близоруко поднес пистолет к очкам, рассматривает. Значит, пистолет все время лежал под ладонью у Муравьева, но он и не вспомнил об оружии, придавленный, распластанный, как лягушка.