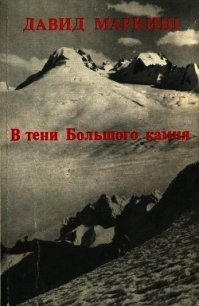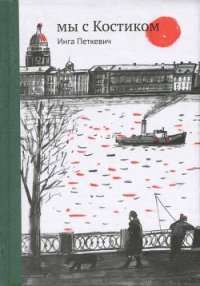Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
— Ты что! — сказал Славка Кулеш. — Ты — русский писатель, я ж тебе говорю. И если тебе здесь кто чего скажет — плюнь: дурья повсюду хватает… Ну, давай еще по одной!
Они выпили, зажевали хлебом.
— А Ешу из Нацерета был дивный человек, — сказал Славка и с размаху двинул Вадима Соловьева по плечу. — Жалко, наши его никак не хотят признавать: упрямые, черти! Ну, да хрен с ними… Я вот еще что: мне тут деньги подсыпали, аванс английский. Давай по-честному поделим, пополам. Тебе деньги нужны: билет, то да се. Давай, бери, может, увидимся еще когда-нибудь, кто его знает.
Когда Нелли Цветкова явилась с селедочкой, коньяка в бутылке оставалось на донышке.
— Где здесь лавка-то? — спросил Славка Кулеш, подымаясь из-за стола. — Дай-ка я теперь за бутылкой сбегаю: дорого яичко да ко Христову дню… Уезжает, все-таки, человек…
Вадим Соловьев улетал ранним дождливым утром. Не доезжая аэродрома, его маршрутное такси сбило на дороге собаку — крупного, костлявого бродячего пса. Шофер, ругаясь, остановил машину на обочине и вышел поглядеть на помятое крыло и разбитый подфарник. Собаку отбросило ударом в кювет, и она лежала там неподвижно. Глядя с отвращением то на шофера, ощупывавшего крыло, то на убитую собаку, Вадим дивился тому, что удар вышел таким сильным; ему никогда в голову не приходило, что большая машина может пострадать от наезда на собаку. Потом он вдруг вспомнил, как собаку, сбитую черной «Волгой» на Лубянской площади, затаскивали, закогтив пожарным багром, в ворота тюрьмы… Вадим поспешно отвел взгляд от собаки и от шофера, досадливо скривил лицо: «Что это меня тянет в последнее время на воспоминания, да еще на такие гнусные!»
В верхнем зале аэропорта, глядя сквозь стеклянную стену на самолеты с красивыми знаками на хвостах, Вадим Соловьев не ощутил ни предотъездного облегчения, ни предотъездного беспокойства. Только стоя у сувенирного киоска и покупая дешевенький крестик из кипарисового дерева, он почувствовал нетерпение: скорей, скорей, ведь через несколько часов он отдаст этот крестик Мыше.

10
ВЕНА. ЛЮБОВЬ
Всю дорогу от аэродрома к Мышиному дому Вадима Соловьева донимали воспоминания. Он противился им, как мог — да, видно, не мог: неопрятно заснеженные улицы предместья были точно такими же, как год тому назад, когда он бродил здесь с Захаром, рассуждая о счастье, о чуде, о вкусе вина. В трамвае, на который пересели с автобуса, все так же приятно были нагреты сиденья — как тогда, когда они ехали с Захаром в Грюнциг. Здесь, несомненно, ничего не изменилось со смертью Захара, со смертью тысяч и тысяч людей этого города, перевезенных за этот год из домов на кладбища.
Изменился Вадим Соловьев.
Изменилась ли Мыша — этого Вадим не знал и не хотел об этом думать: а вдруг изменилась.
Мыша сидела рядом с Вадимом на теплом трамвайном сиденье, и ему неловко было все время поворачивать голову и глядеть на нее: ведь она, как и он, думала сейчас о Захаре, и Вадимовы взгляды могли быть ей неприятны и тягостны. И Вадим Соловьев досадовал, что не нашлось другого места и что Мыша не села против него; тогда можно было бы глядеть на нее беспрепятственно, не поворачивая головы.
С самого аэродрома, когда Вадим осторожно обнял ее и поцеловал куда-то в воротник пальтишка, они почти и не разговаривали: бессмысленно было говорить о чем-либо, минуя Захара и его смерть. А расспрашивать о Захаре у Вадима Соловьева недоставало смелости. Он ждал, пока она заговорит сама; но молчала и Мыша.
Чем ближе подъезжали они к дому, тем тревожней и мучительней размышлял Вадим Соловьев над тем, что скажет он, переступив порог, войдя в кухню или в комнату. Ведь нельзя же будет молча сидеть за столом и глядеть на Мышу, хотя именно это было бы всего лучше. Сидеть, молчать без неловкости — а слова придут потом… В том-то и дело, что никуда не убежишь от этой проклятой неловкости.
От неловкости не убежать, и не убежать от того, что было здесь год назад. Да что ж это за беда, Господи, Боже мой! Все, все в жизни обращено назад, все упирается в прошлое, вершинами торчащее в памяти, далекими и близкими вершинами. И ни о чем невозможно думать, не оглядываясь назад, и нельзя говорить, не чувствуя спиной эти вершины. С какого же времени, с какого возраста начинается для человека прошлое? С семи лет, с тринадцати? С самого рождения? И что есть у него, кроме прошлого? Все, все умещается в памяти, в этой черной коробке, обклеенной изнутри голубым бархатом. Память — это и есть человеческая жизнь, и никто не знает, почему до самого конца сохраняется в памяти и блестит, как стеклышко на солнце, пустячное какое-нибудь событие — а иные глыбы и горы рядом с этой искрящейся песчинкой выветриваются и разрушаются. Не знает себя человек, никак не может прочитать себя до точки и выучить наизусть — только прошлое свое знает, выложенное цветными камушками в черной коробке.
— Нам сходить, Вадим, — сказала Мыша, касаясь вытянутым тонким пальцем его локтя. — Забыл?
— Нет-нет, что ты!.. — пробормотал Вадим Соловьев, вскакивая поспешно.
В кухне было тепло, светло, стол покрывала клетчатая скатерка, и «Спидола» стояла на холодильнике.
— Ты в этой куртке совсем окоченел, — сказала Мыша. — Чай сам заваришь, или я? Вон там, цейлонский.
— А, ты помнишь… — сказал Вадим. — Жуткое это дело — память. Я всю дорогу об этом думал, когда мы ехали.
— Вот и приехали, — сказала Мыша. — Так я сама?
— Если тебе не трудно, — сказал Вадим и вдруг почувствовал, как сладко, пьяно закружилась у него голова: вот сейчас она, как тогда, подойдет к стенному шкафчику, и привстанет на цыпочки, и, немного откинувшись назад, потянется рукой к высокой полке, за заваркой.
Она и подошла, и потянулась, и вместо того, чтобы смотреть на нее, на ее ноги и высокие плотные бедра и падающие волосы, он вскочил и бросился к ней — помогать.
— Сиди, сиди, — сказала Мыша. — Тебе еще сколько рассказывать.
— А в Ленинграде какая погода? — спросил Вадим, кивая на «Спидолу». — Холод?
— Мороз, — сказала Мыша, подсаживаясь к столу против Вадима Соловьева. — Сегодня послушаем… Помнишь, как слушали?
— Помню, — сказал Вадим. — Ты тогда включила приемник и села вот сюда, а я здесь сидел…
И оба они поглядели на третий стул у стола, свободный, а потом взглянули друг на друга.
— Ты рассказывай, — сказала Мыша.
— Да, — сказал Вадим Соловьев. — Даже не знаю, с чего начать — столько всего случилось.
— А ты давай по порядку, — сказала Мыша.
Но он начал с конца: с зарезанной книги, с Израиля, с рабби Абоаба и денег на Иисусовом гробе. Она слушала молча, внимательно, перебив только раз: спросила, какого числа прилетел он в Израиль. Но Вадим не помнил числа, назвал примерно и ошибся. И Мыша то ли разочарованно, то ли облегченно покивала головой: получалось так, что Захар погиб за неделю до прилета Вадима в Тель-Авив.
Известие о том, что Вадим решил добиваться возвращения в Россию, Мыша приняла без удивления. А Вадим боялся, что она станет отговаривать его, переубеждать.
— Может, ты и прав, — сказала Мыша. — Особенно, если ты не хочешь или не можешь жить просто так.
— А ты? — спросил Вадим Соловьев.
— Могу, — сказала Мыша. — И Захар жил просто так, легко.
Она впервые за этот вечер назвала имя Захара.
Степан Петрович Удалов любил роскошь. Он ездил в роскошном автомобиле, в его доме помещалась роскошная мебель карельской березы, внутренний карман его пиджака оттягивал роскошный золотой «Ватерман», он был привязан к роскошной домашней собачке редкой тибетской породы, и ангорский кот в зеленом ошейничке, которого он терпеть не мог, тоже был роскошным. Жена Степана Петровича, по всеобщему мнению, была женщиной роскошной, и именно это обстоятельство кое-как примиряло Удалова с его дородной половиной и не давало распасться семье. Сам же Удалов, после двадцати лет совместной жизни, видел в Татьяне Николаевне лишь втиснутое в роскошное белье и одежду беспредельно надоевшее ему тело, мерзко храпевшее по ночам. О мирном же разводе с женой Степан Петрович не думал никогда: это решительно затормозило бы его медленное, но зато верное восхождение по служебной дипломатической лестнице, столь богатой крутыми поворотами. Второй советник посла СССР в Австрии Степан Петрович Удалов был человек оглядчивый, ловкий и отнюдь не дурак. Он был почти уверен, что, при его связях в Большом доме, через два-три года его ждет назначение послом в какую-нибудь маленькую африканскую страну. В своей роскошной венской квартире он терпеливо ждал этого назначения.