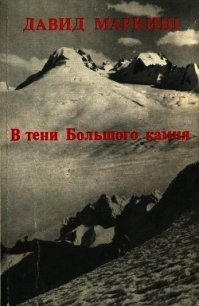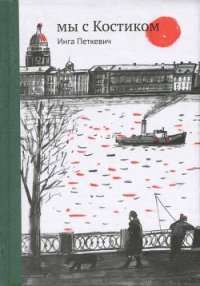Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
— Не знаю, — сказал Вадим Соловьев.
Ему хотелось встать, уйти, и он знал, что этого не сделает.
— Пошли бы, пошли бы, — Удалов легонько похлопал ладонью по Вадимову заявлению. — Подумали — и пошли бы… Ну, вот и считайте, что статейка — это тоже, в своем роде, уступка реальной действительности. Советское государство предъявляет вам счет (счет этого идиота следователя, — добавил про себя Удалов), и вы должны платить… Между нами говоря, — Степан Петрович понизил голос, как бы говоря нечто не совсем дозволенное и почти интимное, — это не страшней обрезания. А?
— Я бы хотел немного подумать… — сказал Вадим Соловьев, с тоской думая о том, как он сможет объяснить Мыше свое согласие. Это ведь, пожалуй, подлость — и статья, и то, что Удалов сравнивает ее с крещением, с обрезанием. А не подписать ее, отказаться — значит расписаться в получении отказа. Сколько времени уйдет на то, чтобы смыть с себя грязь, — год, два? Или так составить эту проклятую статейку, чтоб всем сразу стало ясно, что писал ее не он, не Вадим Соловьев?.. Ничего не надо об этом говорить Мыше.
— Если я сообщу в Москву, что вы просите время на обдумывание нашего предложения, — услышал он голос Удалова, — это будет истолковано не в вашу пользу. Да и что тут думать, вы уже целый год думали!.. Вы — согласны?
— Согласен, — не подымая глаз на хозяина, сказал Вадим Соловьев. — А когда может прийти разрешение?
— Я постараюсь ускорить решение вашего вопроса, — искренне сказал Удалов и не без жалости к Вадиму подумал о том, что странное, все-таки, существо русский человек. По ошибке или не по ошибке — но вот уехал этот симпатичный паренек на Запад. Нет бы ему выучить какой-нибудь язык, пойти на курсы счетоводов или компьютерщиков, устроиться по-человечески, обжиться… Тянет его обратно в Россию, где его зашлют, наверняка, куда-нибудь в глухомань, под вечный надзор, а то и посадят на всякий случай, чтоб не сболтнул лишнего. Чего он добивается, этот совестливый дурачок? Или по черному хлебу соскучился, по березкам?
Доброжелательно глядя на молчащего Вадима Соловьева, Степан Петрович с легкой досадой вспомнил о своей дачке под Москвой, в жидкой березовой рощице, о том, что хорошо было бы, наконец, перенести уборную со двора в дом, и что, как ни велика его дипломатическая пенсия, плюс за погоны — этого всего никак не может хватить на приличную, привычную жизнь. Глядя уже сквозь Вадима, он вполне отчетливо видел лавку сельпо в своем дачном поселке, нефтяную водку и тошнотворный портвейн на грязных полках, коричневые макароны в мешке и постное масло в бочке, и как продавщица, грубая и наглая баба, завертывает развесную селедку в газетную бумагу… Как жаль, как бессмысленно жаль, что его, Степана Удалова, лет двадцать пять тому назад не выкинули из России, как этого паренька, упускающего свою удачу, свой единственный шанс в жизни. А теперь уже поздно, и страшно, и здоровье не то. А теперь только и остается назначение в эту гнусную Африку да устройство теплого сортира на даче. Дача, пенсия, ежедневная партия в шахматы с противным стариком Кузовлевым — бывшим послом в Венесуэле, болезнь, смерть. И нечего даже мечтать о кремлевской больнице и месте на Новодевичьем кладбище.
Степан Петрович Удалов ошибался в своих прогнозах. Три с половиной года спустя после описываемых событий генерал Лукомцев будет смещен со своего поста, а еще через месяц советник посла Удалов получит предписание вернуться в Москву для вступления в должность начальника архива Министерства иностранных дел. Назавтра после получения предписания Степан Петрович явится в посольство Соединенных Штатов в Вене, имея при себе чемоданчик с особо секретными документами и драгоценностями жены, и обратится к американским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Эта его просьба будет удовлетворена без проволочек. В том же месяце военный трибунал приговорит полковника КГБ Удалова к расстрелу за измену родине. Приговор будет приведен в исполнение через четыре года, на пятьдесят восьмом году жизни приговоренного, в Москве, куда его доставят после похищения с Багамских островов оперативной группой Второго специального управления КГБ, прибью шей на место на борту научно-исследовательского океанологического судна «Академик Королев».
От грустных мыслей о неблагоустроенной даче и Новодевичьем кладбище Степана Петровича отвлекло глухое ворчание: тибетская собачка, тряся башкой, дергала и теребила шнурки ботинок Вадима Соловьева. Вадим сидел в кресле неподвижно, его лицо выражало отвращение и страх.
— Не бойтесь, она не кусается, — проведя рукой по лбу, сказал Степан Петрович. — Замечательная собачка, а?
— Да, — сказал Вадим. — Просто я не выношу собак. Это, наверно, врожденное.
Статью напечатали в «Известиях». Редакторская рука аккуратно освободила от Вадимовых поправок и вставок первоначальный текст, полученный Вадимом от Удалова.
На исходе третьего месяца после появления статьи Вадим Соловьев получил отказ на свою просьбу о репатриации. Читая отказ, Степан Петрович только плечами пожал: «Ну, идиоты! А у этого следователя, как видно, есть рука где-то наверху…», и велел секретарше сообщить ответ Соловьеву, согласно инструкции, в устной форме.
Вернувшись из посольства, Вадим не застал Мышу дома: она с обеда до восьми вечера нянчила какую-то больную старуху, подрабатывала этим. Вадим лишился заработка после известинской статьи; ему тогда с возмущением отказали от дома, где он по два часа в неделю учил русскому языку внучат старых эмигрантов.
До прихода Мыши Вадим просидел в кухне, не зажигая света, время от времени тихонько разговаривая сам с собою. Отказ обрушился на него, как камень с горы. Он был уверен, что статья, подписанная им — полная цена за возвращение. Презрительные взгляды редких знакомых, стреляющий шепоток за спиной: «Продался! Сволочь! Кагебешник!» — Вадим Соловьев принимал как должное, как горчайшее лекарство, предшествующее выздоровлению и выписке из больницы, о которой, выйдя, следует постараться забыть как можно скорей. Последние три месяца он почти не выходил из дома. Сидя за машинкой, он сочинял за малую плату прошения для желающих вернуться в Россию эмигрантов, адресованные Брежневу, Андропову, советскому послу в Вене. Учитывая профессию и характер просителей, он писал назойливо или трогательно, бодренько или нагло — однако всегда слезно и жалко. Это сочинительство немного развлекало его; вырученные же деньги он без лишних слов подкладывал в Мышин кошелек.
С Мышей он говорил обо всем — кроме того, что могло и должно было, в конце концов, открыться между ними. Он корил себя и грыз за то, что не набрался смелости поговорить с ней начистоту с самого начала, даже не требуя немедленного ответа. А теперь, чем больше проходило времени, тем глупей, как ему казалось, было заговаривать о том, что влекло его весь этот год в Вену. И вот он, наконец, здесь, и они живут как бы одной семьей: стеснение и скованность первых дней прошли, они готовят еду друг другу, и она стирает его рубашки и трусики, и они пользуются одной уборной и ванной, и все это уже в порядке вещей. Но спят они каждый в своей комнате, и утром, когда она выходит в коротком легком халатике и он видит ее высоко открытые, с плотными и нежными икрами ноги, и лепные хрупкие уши, просвечивающие сквозь гущу падающих волос, и угадывает маленькие острые груди под тонкой, почти невесомой тканью — он не может смотреть на нее открыто, глядит украдкой, и у него начинает плавно кружиться голова, как в первый день по приезде… Вадим Соловьев не знал, сколько это будет продолжаться, и не загадывал, как и когда это кончится. Он знал только, что никогда в жизни не испытывал такого странного, приятного и мучительного чувства. Он хотел спать с этой женщиной, с Мышей — и вместе с тем хотел любить ее, и чтоб она его любила и думала о нем. Прежде его не занимала мысль о том, любит ли его женщина, которая спит с ним. А если он чувствовал, что — да, пожалуй, любит, — он испытывал неприятное беспокойство и стремился свести это знакомство на нет. Не находя в себе сил убрать из кухни третий стул, его стул, и рассказать Мыше все то, что ему куда легче было бы написать, или просто сказать «я тебя люблю» — он уже несколько раз собирался уйти отсюда, без прощания и без записки. И не уходил, робко надеясь на то, что его уход огорчил бы Мышу и расстроил ее. Только разрешение на отъезд, на возвращение домой могло положить конец этой томительной неопределенности.