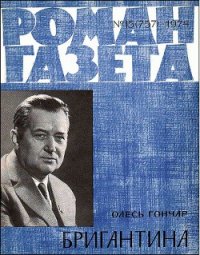Таврия - Гончар Олесь (первая книга .txt) 📗
Подумав, Ганна ответила протяжно:
— Луч-ше…
И смотрела на паныча смелым, изучающим взглядом.
— Главное, чтоб не скучала по степи… Ты уже тут, Любаша, развлекай ее… Можешь позвать вечером Яшку-негра, пусть поиграет вам на гитаре… А я сейчас в Геническ. Что тебе привезти из Геническа? — любезно обратился он к Ганне.
— Ничего мне не надо, — ответила она, хотя ей была приятна сама возможность заказывать, приятно было чувствовать свою власть над этим молодым миллионером, что мог бы с потрохами закупить всех криничанских богатеев Огиенков, от которых она в свое время столько натерпелась.
— Вот как управлюсь немного с делами, повезу вас к морю… Ты хочешь видеть море, Аннет?
— Не называйте меня Аннет… Я — Ганна.
Паныч засмеялся:
— Хорошо, не буду… Так поедешь к морю, Ганна?
— Посмотрим.
Заботливо коснувшись мимоходом горячего подбородка Ганны и пожелав ей поскорее поправиться, паныч оставил комнату.
Ганне понравился этот визит. И то, что паныч постучал в дверь, спрашивая разрешения, прежде чем войти, и что задержал в комнате Любашу, чтоб не оставаться им наедине, и деликатная речь — все это было новым для Ганны, непривычным после грубости, среди которой она росла, после тяжеловесных шуток, которых она наслушалась от каховских барышников. Правда, когда он мимоходом провел рукой по ее подбородку, Ганну передернуло, а когда, выходя, он окинул взглядом ее тело, то Ганне показалось, что он видит ее сквозь простыню обнаженной, но и это у него вышло как-то особенно, по-пански, и не обидело Ганну.
— Вот это приворожила, — восторженно пропела Любаша, когда шаги паныча стихли за дверью.
— Уж и приворожила, — не сдержала улыбки Ганна.
— Впервые таким его вижу… Ни одну он так не навещал… Ой, Ганна, попануешь! — в восторге воскликнула Любаша и кинулась к коробке, оставленной панычем. — Что он тут принес? Духи! Глянь, какие флаконы! Такие только у барыни есть… А пахнет! Давай я тебя побрызгаю, Ганна, чтоб парижами пахло, ха-ха-ха… Не только ж им, когда-нибудь надо и нам!
Набрав полный рот одеколона, Любаша принялась тут же прыскать на Ганну ароматным дождем.
За этим занятием и застали девушек Сердюки, которые ввалились в комнату без всякого предупреждения.
— Чем это у вас так пахнет? — расставив руки, шутовски заговорил Левонтий. — Не то мятой, не то канупером… и не разберешь.
Оникий тем временем, подойдя к столу, уже заглядывал в коробку. Открыл самый большой флакон, приложил к ноздре, с сопением потянул в себя, словно тертый табак.
— Ох, и шпигает же!..
Ганну, которая до сих пор сдерживалась, это окончательно вывело из себя. Порывисто поднявшись на перинах, она неожиданно властным движением указала дядьям на дверь:
— Выметайтесь отсюда… выметайтесь вон!
Дядьки остолбенели, нелепо улыбаясь.
— Ганна… Да что с тобой?
— В коробках рыться пришли? Нюхать разогнались? Там нюхайте! — распалилась Ганна. — Чего стоите, как пни? Слыхали мои слова? Любаша, кликни паныча, может, хоть он их выведет!
Это на дядек сразу подействовало. Осторожно, как по скользкому, они попятились к двери.
— И чтоб без стука больше сюда не врывались, — бросила Ганна им вдогонку и снова легла.
— О, какая ты!.. Даже меня напугала, — с искренним удивлением уставилась на Ганну Любаша, когда дверь за Сердюками закрылась. — Отбрила так, что и я не сумела б! «Выметайтесь», ха-ха-ха… Рано за выручкой прибежали… Да в самом деле, что они тебе теперь, чего им в рот смотреть? Родные дядьки? Пустое: какая уже там родня, где торг идет!
Ганна молчала, строгая, задумчивая. Выгнав дядек, она не почувствовала радости. Как-никак Сердюки сейчас были для нее в Аскании самыми близкими людьми. Что-то похожее на жалость или сочувствие тронуло ее душу, когда они, растерянные, униженные, очутились за порогом. Припомнила, как была маленькой и бегала с ровесницами колядовать к ним на панскую воловню (Сердюки, не имея в Криничках своей хаты, лето и зиму жили при панской воловне). Тогда дядьки еще не были такими сквалыгами и радостно встречали племянницу, расплачиваясь за колядки заранее приготовленными гостинцами. Припомнились материнские напутствия — держаться дядек, слушаться их во всем… Хорошо же она их слушается! Так приструнила, что они вынуждены слушаться ее!
Сама была удивлена вспышкой своего неожиданного властолюбия и тем, как просто можно заставить других подчиняться себе. На них первых сбила оскомину, на них первых испытала свою власть, которая как бы невольно заставляла ее быть черствой и бессердечной с другими. Может, это и нехорошо, но чувствовала, что и дальше будет поступать так. Появись здесь дядьки вторично, она вторично их выгнала бы, хотя, несмотря на стрекотание Любаши, одиночество все сильнее угнетало ее.
Степь была где-то далеко. Даже не верилось Ганне, что сегодня она еще спотыкалась на стерне, ожидая бочек с водой. Подруги и сейчас там, в адской степи, бегают за косилками, а она уже выкупана, в перинах, в духах… Повелевает, и ее слушаются. Кажется, должна радоваться от такой внезапной перемены, но настоящей радости не было. Чувствовала только физическое облегчение, которое все же не могло заменить собой нечто другое, более важное, чего не хватало Ганне в жизни.
— Душа у меня не на месте, — говорила на другой день Ганна Любаше, когда они вышли под вечер на окраину поместья погулять. — Тяжко мне почему-то, тревожно… От одного берега отплыла, а к другому не пристала… И пристану ли?
— Странная ты, Ганна, — отвечала Любаша, — ей-богу, чудная. Другая бы на твоем месте шла и земли под собой не чувствовала, а ты… Ну, почему ты такая? Пусть вчера болело, а сегодня уже и ноге легче, вся в обновах идешь — фартучек на тебе, как фата венчальная… И еще недовольна!
— Что фартучек, Любаша?.. Невелико счастье — фартучек горничной… Не дорожу я им.
— Потому что легко достался. Другим он бог знает чего стоит, а тебе — считай — даром его поднесли.
— Как-то тесно мне в нем, неудобно… И завязки вроде давят, и каждый, как на белую ворону, смотрит… Наверно, не родилась я для прислуги, Любаша… Нет во мне холопского дара.
Посмотрев сбоку на Ганну, Любаша отметила про себя, что и в самом деле ее спутница мало похожа на прислугу даже в накрахмаленном фартучке горничной. Идет и не покачнется. Голову — в черной блестящей короне кос — несет, как княгиня какая-нибудь.
— А чего бы ты хотела, Ганна? В автомобилях кататься? Еще покатает!
— Этого мне тоже мало, — ответила с усмешкой Ганна.
— Тогда я не знаю, чем он тебя завлечет, — развела руками Любаша. — Разве что птичьего молока из Геническа привезет…
Невдалеке от дорожки, по которой они шли, за зарослями камыша работала артель землекопов. Ганна загляделась на них, обшарпанных, полуголых, измученных работой.
— Что они роют, Любаша?
— Новый пруд пробивают… Вот видишь, какие: на людей не похожи. Все с тачками да грабарками, ворочают землю, как каторжники, с утра и до ночи… А мы тем временем на прогулку ходим, воздухом дышим… Думаешь, не завидуют они нам?
Ганна остановилась.
— Пруд в степи… Даже странно. Разве здесь можно до родников докопаться?
— Их дело землю выбрасывать, а воду сюда из артезианов по трубам напустят… Видишь, вон тот маленький, быстрый, в кепочке, который толпу собрал, аршином размахивает? То и есть как раз главный водяной, механик водокачки… Он тут со своей бражкой всю воду в руках держит, — объяснила Любаша и, оглянувшись, добавила полушепотом: — Говорят, он из тех, что против царя идут! На каторгу как будто должен был загреметь, да как-то в Асканию выскользнул…
— Мы видели одну такую в Каховке, на лесной пристани, — похвалилась Ганна. — Мне она понравилась… Призывала народ спасать… Но разве можно всех спасти?
— А я, Ганна, боюсь их… Как встречу где-нибудь этого водяного, мороз по коже продирает… Может, у него и нет ничего плохого в мыслях, а мне все кажется, что у него полные карманы бонб напиханы!..