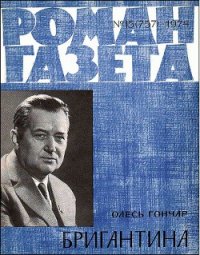Таврия - Гончар Олесь (первая книга .txt) 📗
…Уже после захода солнца, возвращаясь в поместье, девушки неожиданно встретились с негром за камышами, возле Герцогского вала. Вежливо, с достоинством, он поздоровался, держась с ними, как с равными. Ганна еще прихрамывала, и когда поднимались на вал, Яшка подал ей руку, помог взойти. Черной была рука, но какой горячей, сильной и нежной!
Потом они разговаривали о чайках и страусах — о вчерашнем никто не вспоминал. Без привычки Ганне нелегко было понимать Яшкину ломаную речь, но все же главное она постигла: он рассказывал о своих упрямых земляках, которые даже здесь, в Аскании, не хотят отрекаться от привычек, приобретенных где-то там, в теплых краях. В самом деле, смешные! Нестись начинают не весной, как другие птицы, а глубокой осенью, ближе к зиме, когда кругом стужа свистит и морозы бьют…
— Верные на свой календарь оставайся, — весело объяснял негр. — Зима-весна перепутай…
— Ага, — догадавшись, засмеялась Ганна. — Когда у нас зима лютует, у них там как раз весна цветет… А когда приходит время, — то что им стужа? Они думают, что и у нас весна наступает…
— Разве они думают? — рассмеялась Любаша и вдруг застыла, изменившись в лице: — Ганна, барыня идет!
На тропинке при выходе из поместья появилась группа дам в длинных платьях и в шляпках. Софья что-то оживленно говорила приятельницам и была такая же широкоротая, как и вчера, когда лечилась солнцем в саду. Дрожь отвращения пробежала по телу Ганны, словно по тропинке прямо на нее шла вздыбленная саженная змея.
Обойти нельзя было. Возвращаться — поздно.
— Не бойся, — тихо сказал негр, и, не останавливаясь, они шаг за шагом двигались дальше — Ганна с негром впереди, а Любаша по пятам, прячась за их спинами.
Точно слепая, не вздрогнув, пропустила Ганна мимо себя надушенных женщин. Чувствовала, как обстреливают они ее из-под шляпок взглядами. Прикусив губу, Ганна давала им себя разглядывать, хотя сама не взглянула ни на кого. Бледная, напряженная, видела перед собой лишь темнеющие ущелья асканийских парков и распростертое над ними светлое крыло перистых неподвижных облаков.
Прошли, прошелестели барыни, словно горбатые ведьмы, и Ганна вскоре услыхала, как они, отойдя, захихикали и кто-то, кажется сама Софья, бросил насмешливо:
— Чем не пара была б?
Ганна промолчала. Молчал и негр, неторопливо ступая рядом и простодушно улыбаясь.
Гортанным неприятным голосом прокричал в темноте павлин.
Глухой ритмичный гул доносился от водокачки.
А со стороны моря над парками уже постепенно разгоралось кровавое зарево, словно кто-то разводил чабанский костер среди туч: так всходила луна.
В степных колодцах становилось заметно меньше воды. Тяжелые дубовые бадьи черпали ил с самого дна, поднимались на поверхность полупустые. Скот часами грудился у колодцев, дрался над корытами, с ревом набрасываясь на скупые колодезные остатки.
Лопалась раскаленная земля. Лежала в таких трещинах, что лошади ломали ноги на скаку. Трава, выгорая, свертывалась и ложилась на степь, сбиваясь, как войлок. С целинных земель горячие ветры уже разносили по всей Таврии семена тырсы, крепчайшей травы из семейства ковылей. Казалось, что из всей степной растительности только она, тырса, которая издавна взяла себе в союзники суховеи, сможет перенести лютую жару, выжить и продолжить себя в потомстве. Острые и крепкие, как стальные иголки, семена ее неслись над степью тучами мельчайших стрел и не просто ложились на землю, а впивались в нее своими жалами, выставив под ветер длинные тоненькие хвостики-сверлышки. Мириады таких ковыльных буравчиков, раздуваемых ветром, шевелились целыми днями в степи, впившись в сухой грунт, постепенно ввинчиваясь в него все глубже и глубже. Особенно много хлопот доставляла тырса чабанам, которые в дни ее облетания не знали, куда деваться с отарами. От летучих семян шерсть на овцах сбивалась комьями, до самых глаз запухали разъеденные остью овечьи морды. Ковыльные остюки въедались глубоко в тело, попадали в кровь, доходя иногда по жилам до самого сердца.
Все живое изнывало от немилосердной жары. Немногих могли спасти асканийские холодки! Как всегда, с середины лета во всех таборах был введен водяной паек. Приказчики экономили теперь каждое ведро, заботясь в первую очередь о скоте. От водного режима больше всего терпели те, кому приходилось работать на полях и токах, заброшенных далеко от таборных колодцев. Для них воду привозили водовозы, которые, однако, не могли обеспечить измученную жаждой многотысячную армию сезонного люда. Из-за воды между батраками и приказчиками то и дело вспыхивали острые стычки. Привозили скупо, с перебоями, да еще теплую, наполовину с илом — остатки того, что нацеживалось уже после водопоя скота. Правда, из асканийских артезианов воды хватило бы на всех, но артезианы — не для сезонников… Трудно было жить на скупом привозном пайке, считалось счастьем попасть куда-нибудь на работу при таборе, на тока, расположенные вблизи колодцев.
С началом молотьбы повезло и криничанским девушкам: в числе других их переводили на ток в Кураевый к паровику Бронникова.
Для Вусти этот день стал праздником. Шла на Кураевый, озаренная радостью близкой встречи с милым, охваченная сладким трепетом, от которого всю дорогу хотелось смеяться. Глаза горели, губы шаловливо подергивались, и ноги сами несли ее к табору, легкую, нетерпеливую, всю в живчиках счастья.
Прямо с дороги вязальщицы свернули к колодцу, где знакомые доярки полоскали после дойки свои подойники. Если б знала, — обошла б Вустя доярок десятой дорогой, чтоб не слышать от них того, что довелось услышать, что перевернуло душу:
— Прожнивовала ты, Вутанька, свое счастье… Проспала его в поле на меже… Другую нашел.
И, захлебываясь в напускном сочувствии, наперебой рассказывали, как все произошло. Дважды приезжала к нему одна на самокате, на двух колесах… Дважды провожал ее Леонид далеко в степь не то в сторону Маячки, не то на Алешки, а что уж между ними в степи было, то никому неведомо…
Видели только девушки, что возвращался матрос с тех проводов не скоро, веселый и довольный, как и каждый, кто всласть нацелуется в степи… Вот он какой: мало ему своих… Хоть менял бы, да было б на что! Не первой, видно, молодости она и не такая уж красавица — далеко ей до Вутаньки! Только и того, что городская, при ридикюле и в шляпке… Давняя, наверное, морская его любовь…
На ходу пила Вутанька свежую отраву, которой угощали ее со скрытым злорадством доярки (некоторые из них, будучи сами неравнодушны к машинисту, считали себя тайными соперницами Вусти). Не расспрашивала их ни о чем, не выведывала подробностей, будто это ее меньше всего касалось… Зачем расспрашивать? Зачем ковром разворачивать самое дорогое, самое чистое, по которому пройдет кто-то, злорадствуя, в ее девичьи светлицы? Горделивая усмешка как легла в первую минуту на ее губы, так и застыла, не увядая: была девушке хоть тоненькой защитой от всего, от всех. Ни за что, ни перед кем не хотела открыть Вутанька свою первую ревнивую боль. Брошена… За что он ее так? Слезы душили девушку. Стояла, склонившись над срубом, подставив разгоревшиеся щеки свежей прохладе, шедшей из глубины колодца. Будто сквозь туман доносились до нее по-базарному крикливые голоса:
— И кто бы мог подумать? Готов был Вутаньку на руках носить, а только отвернулась, уже другую себе раздобыл!
— Все они такие… ославит девушку — и прощай!..
— Недаром же в песне поется, что несчастлива та девчина, что полюбит моряка…
Ах, в песне!.. Сколько песен спела ему Вутанька в одиночестве на косьбе, сколько еще не спетых несла ему с собой в Кураевый!.. «Ты, машина, ты, свисточек, подай, милый, голосочек…» Карой-мукой обернулся для нее тот голосочек. Никогда б его лучше не слышать!.. Так ему верила… Неужели он мог все забыть? Опоили его, наверное, зельем приворотным, по своей воле не отшатнулся бы от нее, не обидел ее так жестоко, бессердечно…
— Нет у них жалости к нам, — слышала, словно в горячечном бреду, чьи-то далекие слова. — Сорвет, как цветок, и растолчет…