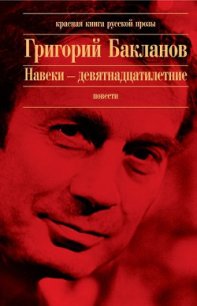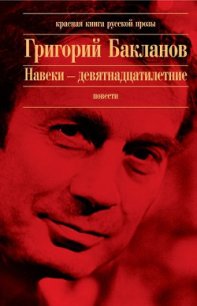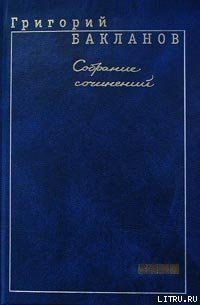Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читать книги без сокращений .txt) 📗
В этом месте речи прокурора Карпухин дернулся, хотел сказать что-то, милиционер сейчас же сделал к нему строгое движение, но еще раньше Карпухин погас. Только взял руками свою тяжелую голову и сидел, не подымая ее.
— Так я вас спрашиваю, — продолжал прокурор, тоже заметивший движение за загородкой, но не повернувший головы, — сходятся ли эти факты с портретом обвиняемого, который вы здесь нарисовали? Или они находятся в полном противоречии? Я спрашиваю, поскольку вы обязались говорить суду правду.
— Я протестую! — поднялся со своего места адвокат Соломатин, слепыми глазами глядя в сторону судьи. Старческие руки его в это время искали очки, оставленные на столе. Соломатину нужно было, чтобы протест его, как возможный в дальнейшем повод для кассации, нашел свое отражение в протоколе, и потому он усилил его небольшой дозой гражданского возмущения.
В зале сейчас же возник стихийный шумок. И тогда раздался стук. Это Сарычев, сидя прямо, стучал карандашом по деревянному краю стола. Уже и тишина установилась, а он продолжал громко стучать карандашом.
— Я буду удалять! — сказал он, одновременно показывая Соломатину, чтобы тот сел. В несложной игре, которую вел адвокат, все ходы были известны ему заранее.
За годы, что Сарычев был судьей, на него никто никогда не обижался. Независимо от исхода дела, который порой нетрудно было предвидеть, он так доброжелательно всегда вел заседание, что обижались на прокурора, на адвоката, особенно если негласно уплатили гонорар вперед, а оправдательного приговора не последовало. Даже преступники, которых он приговаривал к значительным срокам заключения, как правило, не обижались на него: закон строг, а судья хороший был мужик.
— Государственный обвинитель, — сказал он Бобкову мягко, — поставил вопрос в такой форме, что я разрешаю вам на него не отвечать.
Его не смутил при этом открытый, ненавидящий взгляд Мишаковой.
— Вы можете не отвечать, — повторил он.
Однако Бобков, почувствовав поддержку, разволновался вдруг.
— Я что хочу сказать, — заговорил он быстро, словно боялся, что перебьют. — Вот у меня рука левая… — И, подняв другой рукой, показал судьям и залу свою бессильную левую руку, кисть которой повисла. — Вы, может, думаете, я такой с войны пришел? Я с фронта пришел целый. Что было — врачи зашили, под рубашкой не видать. А это я шофером был. В аккурат весной тоже, три года назад. Ростепель была, а тут морозить начало. Еще градусник не показывал, а уж по мотору чувствуется. Такой гололед образовался, что не ты машину ведешь, она тебя ведет. Подъезжаю к перекрестку в третьем ряду: троллейбус, автобус, я. Вдруг из-за автобуса человек выскакивает. Я туда, сюда — все-таки поймал его колесами. Судить меня. А пока судить, меня от переживаний, от мыслей от одних удар хлопнул. Вы как это думаете, человека задавить? Конечно, суд меня оправдал, но руку-то уж не воротишь. И нога тоже волочится. Я что хочу сказать? Шофер, он, конечно, виноватый. Его штрафуют — спорить не имей права. А только нельзя так тоже.
Сарычев выслушал и это объяснение, не прерывая, как бы возместив свидетелю моральный ущерб, нанесенный ему предыдущим вопросом. Затем спросил прокурора, нет ли еще вопросов у него? У прокурора вопросов не было. Тогда он предоставил это право адвокату.
Соломатин, всякий раз близко наклоняясь к бумаге, задал несколько вопросов, которые не содержали в себе ничего, кроме того, что он полностью использует предоставленное ему право.
И вот когда ни у кого вопросов больше не было, когда Сарычев хотел объявить перерыв, с удовольствием предвкушая, как разомнется после долгого сидения, подполковник Владимиров неловко, как человек, который долго собирался, но все не мог решиться и решился в самый неподходящий момент, попросил вдруг позволения задать вопрос. Сарычев только руками над столом развел и улыбнулся: мол, уж вам-то, батенька, было время вопросы задавать, в первую очередь, кажется, право предоставлялось. Но не отказал. И Владимиров, искательно щурясь, сам смущаясь и смущая этим других, так что хотелось глаза отвести, спросил:
— Вот как специалист, как шофер вы сами, — он затруднялся в словах, вам обстоятельства дела знакомы… Скажите суду, мог он, вот товарищ Карпухин, — тут Владимиров смутился еще сильней, вспомнив, что подсудимому надо говорить «гражданин», — мог он быть при этих обстоятельствах не виноват?
И в тоне, каким задан был вопрос, звучало такое явное желание услышать «мог», что Сарычев только головой покачал, а про себя решил сделать в перерыве Владимирову замечание и разъяснить некоторые вещи. Но свидетель понял. И Карпухин тоже почувствовал, что человек этот желает ему добра, и, с волнением выпрямившись, ждал.
— Мог! — сказал Бобков со всей убедительностью. — То есть даже не то чтобы, а просто совсем не виноват!..
Объявили перерыв. Все шумно поднялись, теснясь, двинулись к выходу, сразу же начиная обсуждать.
Бобков сел на свое место рядом с Дусей, ладонью сгреб со лба пот, пристыженно глянул в ее сторону. Что говорил он, что спрашивали — все это сейчас перемешалось у него в голове, и боялся он только, что напортил от неумения, не лучше Карпухину сделал, а погубил. Потому и смотрел он пристыженно, опасаясь встретить укор.
Но Дусе не до него было. От духоты зала, где в летний зной несколько часов подряд дышали вплотную сидящие люди, от волнения сердце у нее колотилось так, что, в целой груди не помещаясь, подкатывало к горлу. И вдруг захлестывало, горячее что-то изнутри приливало к ушам — оглохшая, переставая видеть и сознавать, она раскрытым ртом, распухшими губами хватала воздух. А после вся дрожащая, с мокрыми холодными ладонями сидела, чувствуя непрошедшую дурноту и как в тумане различая голоса и людей. И ничего-то из происходящего не могла она сейчас понимать — так ей плохо было, что, может, хуже всех.
Она не видела, как Бобков сел около неё, не слышала, что он говорит. Все куда-то пошли, и она тоже поднялась и пошла, чувствуя только тяжесть живота и колотящееся сердце. И вдруг столкнулась, глаза в глаза встретилась с мужем. Он стоял и смотрел на нее. Ждал. И когда она увидела его, то словно поняла вдруг, откуда ей все это мучение и за что.
— Коля! — сказала она таким голосом, что люди, не успевшие выйти в коридор, обернулись в дверях. — Ты ж обещал мне! Ты слово дал!.. — говорила она, ему же на него жалуясь, и по распухшему ее лицу из невидящих глаз текли слезы.
Бобков обхватил ее за плечи: «Что ты? Нельзя. Нельзя!» — почти насильно вывел в коридор, милиционер вытеснил последних людей из зала, а Карпухин все стоял, белыми пальцами вцепившись в загородку. Потом он сел, каменно сжав челюсти, кулаками сдавив виски. И всё в нем окаменело с этой минуты.
Милиционер, становясь на скамейки, одно за другим поочередно открыл все окна, при этом оглядывался на обвиняемого, который сидел один. Сделав всё, подошел к нему, потряс за плечо. Карпухин не сразу понял, что от него требуют. Поняв, встал и пошел впереди.
Его провели по коридору среди расступавшихся, с жадным любопытством смотревших на него людей. И в уборной, те, кто курил там, сразу смолкли и смотрели на него все время. А милиционер стоял у дверей, вооруженный. Потом тем же путем его привели обратно.
Спустя время Карпухин почувствовал в кармане что-то мешавшее ему. Это был хлеб, завернутый в потертый клочок газеты, который он принес с собой. И только увидев его, он вспомнил, что надо поесть.
Отдельно, в нише стены, стоял медный чайник с водой и кружка.
— Слушай, друг, подай водички, пожалуйста, — попросил он милиционера. И наверное, милиционер налил бы ему воды. Но как раз в этот момент в зал вернулась секретарь, что-то забывшая на столе. И в ее присутствии милиционер почему-то постеснялся, сделал вид, что не слышит.
ГЛАВА VII
Как только объявили перерыв, женщины, у которых всегда дела есть, тут же разбежались, надеясь хоть к концу вернуться. Кому детей надо было накормить, кого хозяйство ждало — женская работа, несчитанная, немеренная, никогда не убывающая, которую между дел делают, торопила каждую. Мужчины же — мыслящая часть населения, — для которых другой раз и покурить — занятие, остались поголовно. И едва вышли в коридор, почувствовали себя на свободе, заговорили все сразу, первым делом схватившись за папиросы. После долгого вынужденного молчания каждый теперь спешил высказать свои соображения. И, понятно, они-то и были самые правильные, и другого каждый слушал для того только, чтоб скорей иметь возможность сказать самому.