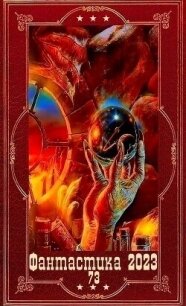Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
Еще уживаясь со скоропостижным согласием, так запросто у него вырванным, он кругом обошел фонтаны, попросил у подступившего разносчика сайку с корицей и хотел узнать, что за шум был на площади, но отдумал: город вокруг них выглядел так, словно в нем ничего не случалось уже сотню лет. У зенитных орудий в неудобной тени сидели с маджонгом кружковцы Бентама; этих не отвлек бы и залп из заваренной пушки над их головами. Не такие ли верят в республику лучше меня, спросил вслух Никита, потому что не думают, что та не обойдется без них; что же, пусть так и сидят здесь с костяшками, пока те, кому нет в этом счастья, срываются в пропасть; может, это и нужно республике, чтобы ей было что рассказать о себе. Мы еще ничего не успели понять о ней, а она уже положила сожителям свой обратный отсчет, и лицо ее представляется нехорошо оживленным, как у ребенка, несущего на заклание жука или лягушку. Некому было ответить ему, и Никита не стал продолжать бесполезную речь; скоро он вышел к историческим баням на съезде, где не был с детства, и решил, что пойдет теперь.
За чудовищной дверью прорезался неосвещенный коридор, пахнущий мокрой бумагой; он двинулся, держась за стену, как в тихом бреду, ловя на затылок редкие ледяные капли. Здание населял то сходящий, то опять нарастающий гул; от пальцев по стене словно бы разбегались мурашки. Споткнувшись о невидимую ступень, Никита поймал тощие, как веревка, перила и стал кое-как подниматься во мраке; когда перила оборвались, он оказался на ровной площадке без зацепок и, выставив руки, сделал еще пять шагов, прежде чем темнота провалилась и свет заставил его отступить. Погодя он различил в сероватом пространстве голые хребты раздевалки, стальные штанги, держащие лампы вверху; пройдя посередине, Никита разделся и сложил вещи на крайнее место. На скамьях были скупо рассыпаны гостиничные порции шампуня и мыла; он не глядя сгреб несколько и забрал постираться белье. За еще одной дверью в три ряда тянулись каменные скамьи, ровные, как надгробные плиты; на ближайшей к нему были составлены стопкой блестящие цинковой чешуей шайки, и он с трудом отцепил себе одну. Кажется, здесь было вряд ли жарче, чем на улице, но Никита не собирался разыскивать истопников; он набрал воды и улегся в нее головой, уперев локти в камень. Потолок шелушился так, что не хотелось смотреть; он скосил глаза вправо и увидел на голубом кафеле узнаваемые и за сто метров стикеры «Самоконтроля», по всему продержавшиеся в этой сырости год или больше. Можно было смеяться, и Глостер смеялся бы сам, и Никита позволил себе улыбнуться, но, еще переждав, слез со стола, подошел и ногтями соскреб огненные наклейки с бензольным кольцом и всевидящим оком внутри.
Он провел здесь часы, слушая стены, без толку умывая лицо, и никто не пришел помешать ему; белье сохло так долго, что Никита едва не решился оставить его взамен счищенных стикеров, продлить сорную музыку необязательной памяти. Перед тем как уйти, он заметил, что в углу раздевалки, как призрак, примощены почерневшие медицинские весы, на каких стояли на военной комиссии; не одеваясь, Никита взошел на платформу и, припоминая, сместил большой цилиндр к восьмидесяти, но железный клюв не пошевелился. Съехав дальше на семьдесят и шестьдесят и вновь ничего не добившись, он понял, что прибор сломан, но продолжил гнать цилиндр вниз по жирной шкале, пока не уперся в итоговый ноль, на котором черная скобка волшебно пришла в оживление и повисла в воздухе, слабо колеблясь; можно было смеяться опять, но Никита почувствовал, что надоел здесь и место уже изгоняет его. Он быстрее собрался и вышел в такой же бессветный, как днем, коридор; ни за что не хватаясь, добрался до первой двери, за которой тьма раздавалась уже широко, нарушаемая лишь алыми вспышками над АТС. Голод, мучивший его в купальне, теперь перегорел, и Никита шагал с беспечностью, наблюдая за кувырками летучих мышей. Со злорадством засранца, подсмотревшего за родителями в замочную щель, он отметил себе, что, хотя республика и осветила все светом новых больших величин, своей собственной тьмы у нее все же не завелось, и та, что лежала теперь кругом, была, как писал еще кто-то из птицеводов, заемной, обжитой еще до того, как родился старейший из прежних военных; и Никите не было страшно идти в ней, большой и шумящей, считая отключенные до зимы фонари и всплывающие углы построек. Когда справа остались молочные колонны театра, он свернул и пошел через площадь под причитание фонтанов; поздний ветер, явившийся из‐за спины, покачнул его и улегся как не был. Ближе к ставке тьма сдвигалась еще, и он выставил руки вперед, не в силах привыкнуть, но, пройдя так немного, животом налетел на багажник машины, поставленной на тротуаре.
Словно бы от толчка та зажглась несколькими огнями; Никита увидел, что внутри есть водитель и один пассажир позади. Не задерживаясь, он распахнул дверь со свободного края и узнал Лютера, который, как стало сразу же ясно, вовсе не оправился от болезни: все лицо его было свинцово, а глаза раскалены до багровой красноты. Что за идиотство, воскликнул он вместо приветствия, чем ты виноват, что и тебя хотят извести; разве ты уже подготовил тех, кто способен продолжить твое ремесло? Голова рисовальщика повернулась в глубоких плечах, и Никиту овеяло печным жаром: для чего тебе это, исполнитель, разве не ты настоял, чтобы ваше свидание было срисовано в младший альбом? Едем, выпалил темный водитель, но не двинулся с места, а вполоборота повернулся к ним, и Никита узнал все того же алголевца: у тебя сегодня долгий день, сказал он со злобой, но хотя бы о тебе я никого не просил; я устал от тебя еще на островах и, будь моя воля, не встречался бы с тобой никогда больше. Алголевец дернул машину, заглох и дернул опять, но потом бросил руль; зачем вы травите меня, словно это я вынудил Глостера к бегству, заговорил он срывающимся голосом, вы не можете простить мне утренних слов, но откуда мне было узнать, что уловка с концертом придумана вами, чтобы предотвратить неминуемое; о таком нам рассказывают позже всех, с кем вообще говорят, а до этого мы так же слепы, и какой же с нас спрос; скажите, и я встану на колени, чтобы вы пожалели меня. Обращенная к ним половина лица искривилась до неузнавания, и алголевец разревелся, плач шел комьями из его горла; Лютер жарко вздохнул, увеличившись, как надувной. Едем, тихо сказал Никита, мы все сильно устали; пощадим друг друга и не будем ничего говорить.
Полуночный китай оказался иллюминирован так, что все трое, подъехав, закрылись руками; Никита вылез на улицу первым и, обойдя автомобиль, помог выбраться Лютеру, покрытому тонкой испариной. Этот цирк неспроста, проговорил рисовальщик, вываливаясь на воздух; кто-то в этом доме особенно рад нам, а скорее тебе. Я это знаю, ответил Никита так негромко и строго, что горячечный Лютер взглянул на него с состраданием. Алголевец дал задний ход и скатился к реке; когда фары пропали во тьме, синие огни поднялись с крыши к небу и ворота, теперь со змеиным шипением, отползли, открыв перед ними ухоженный двор с очередью маленьких черных деревьев вдоль дороги из камня, ведущей к широкой двери, красной и золотой. Все четыре окна нижнего этажа горели хирургическим светом, обращенным как будто внутрь здания; над устроенным в стороне водоемом, как солдат без плеч, стоял сторожевой кипарис. Не успев разобраться, напуган ли он, изумлен ли, Никита взял под руку Лютера и пошел без стеснения; сердце билось совсем далеко, как отпущенное с поводка. С приближением их узорчатая дверь подалась, и на порог в темно-синем халате с янтарным оплечьем выступил Центавр, держа у пояса низкий бокал, налитый желтой патокой, якобы лавой; если кто и достоин сегодня срисовки, то крайний из крайних, шепнул Никита спутнику, но тот не ответил и только сильнее повис на нем. Лютеру нужно кресло, с ненавистью воскликнул Никита, и Центавр подскочил, как мальчишка, и скрылся за дверью, но вернулся ни с чем, оставив внутри и желтый бокал; шаркая по камням, он примкнул к ним и подпер рисовальщика справа: сколько жертв, произнес он, а мы еще в самом начале; кто же мог это вообразить в те дни мая, когда все давалось нам так легко. Кто-то мог, огрызнулся Никита, обхватывая обмякшего Лютера обеими руками; не всем же взбрело, что по одну с ними сторону могут быть только друзья. Центавр, промолчав, крепче впрягся в больного, и они наконец преодолели порог; Никита тотчас же узнал парикмахерские кресла, на которых вертелся ребенком; умники из отдела, увидел он, устроили бар на том месте, где когда-то был гардероб, и они пригодились им здесь, вдоль стойки из сколотого розового мрамора, оставшегося, как он тоже помнил, от работы над памятником в честь унесенных прошлозимним тифом. Стены затягивала глухая красная ткань без орнамента, а в двух дальних углах росли болезненно одинаковые пальмы в квадратных кадках; с потолка простирался светильник-сова с рубиновыми глазами в костяных ресницах.