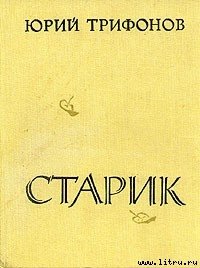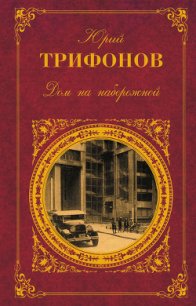Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (читаем книги TXT) 📗
В пол наверху опять стали бухать. Похоже было, что бьют топором. Внезапно всунулась женская голова в очках, очень низко, будто женщина была карлица или ходила, согнувшись в три погибели, и прошелестела скороговоркой:
– Анисимовна, чего скажу: товарищ Сталин будет выступать нынче вечером! И даст приказ уходить с Москвы!
– Закройте дверь! – не своим голосом закричала Ольга Анисимовна.
– Не терпится, чтоб мы уехали, – сказала Оля. – Будет тут шуровать. В первую очередь заберет, конечно, мясорубку. Она на нее давно зарится. Ничтожество!
– Мясорубку я возьму, – сказала Ольга Анисимовна.
– Еще чего!
– Нет, мясорубку возьму непременно. Ты не спорь, мясорубка – необходимая вещь.
– А я такую тяжесть таскать не намерена.
– Хорошо, буду таскать я.
– Мама, ты страшно наивная. Во-первых, в Камышлове не придется жарить котлеты, во-вторых, мы никуда не поедем. Я слышала сегодня, в Москву прибывают огромные войска из Сибири. К празднику немцев наверняка отгонят, это точно.
– Если бы... – Ольга Анисимовна села к столу, подперев седую старую голову рукой, и глядела в окно. Там шел снег. Он выпал невероятно рано. Это что-нибудь да значило. Я подумал: хорошо, что небо закрыто тучами, налета не будет.
– В Москве теперь морские зенитки, – сказал я. – Они бьют очень далеко, чуть ли не на десять километров.
– А знаешь, Андрюша, мама была совсем не плоха месяц назад. Она еще ходила, правда с трудом, – сказала Ольга Анисимовна.
– Как она ходила, мамочка? Пять шагов по комнате?
– Нет, ходила все же. Могла, прости меня, сама дойти до туалета. У нее двигались руки.
– Руки и сейчас двигаются.
– Нет, сейчас мама совершенно беспомощна.
– Неправда. Смотри!
Худые, с согнутыми пальцами руки старухи стали медленно подниматься и, подержавшись немного в воздухе, упали на колени.
– Мама, если трудно, ты, пожалуйста, не демонстрируй, – сказала Ольга Анисимовна. – Обязательно надо взять сторону Оли. Без этого ты не можешь. Какая ты упрямая, мама.
– Ой, она жутко упрямая, – сказала Оля и хихикнула.
Ольга Анисимовна поднялась со скорбным, торжественным видом на лице и, пристукнув кулачком по столу, сказала:
– Что ж, дети мои, я вижу, вы настроены определенно. Я не возражаю. В таком случае принимаем решение...
Где-то рядом оглушающе, с треском разорвала воздух зенитка. Задрожали стекла. Странно – стреляют днем, небо в тучах. Спустя минуту грохнуло снова. Опять задрожали стекла. Стреляли, верно, с крыши высокого дома у Заставы или из парка. Включили радио – нет, тревоги не было, передавался рассказ, артист читал задушевным, доверительным полушепотом, будто выдавал секрет, но не свой. Я объяснил женщинам: прорвался одинокий самолет, вероятно, разведчик, вывалился из тучи, по нему и бабахнули. У новых морских зениток совсем другой звук. Они уж лупят так лупят.
Ольга Анисимович, наклонясь к матери, сказала жалобно:
– Мамочка, без тебя нельзя! Эшелон предназначен для старых большевиков и политкаторжан. Если тебя не будет, нас никто не возьмет. Я не возражаю, но ты должна понять...
Старуха Елизавета Гавриловна думала: как они глупы! Несносно, безнадежно глупы. Две бездарные молодые женщины. Не понимают простой вещи. Как же объяснить? Еще недавно могла писать, хотя бы каракулями, разбирали с трудом, но все же было общение, была какая-то связь. Даже объясняла некоторые сложные моменты, о которых они, бедные, не имели понятия, например причины исторической вражды Германии к России. Написала одно слово «нефть», и они поняли, закивали головами. Человек есть животное общественное. Как только уходит это свойство, как только рубятся нити связи с себе подобными – не непременно с родными, с другими людьми вообще, – человек перестает существовать. Я теперь не существую. Зачем обо мне заботиться? Глупые люди, не хотят понять. Они меня любят. Но любовь не в том, чтобы бессмысленно ломать руки и хныкать, а в том, чтобы догадаться, чего любимый человек хочет больше всего. Неужели трудно сообразить, если не хочет того, не хочет этого, не хочет пятого, десятого, тогда что же остается? То, о чем боятся спросить, то и есть. Ведь, кажется, куда проще, куда очевидней. Старшая Оля не так глупа, как робка, труслива, ею руководит не любовь, а душевная трусость, потому что надо сделать усилие и даже пойти на жертву, пожертвовать величайшей привычкой жизни – привычкой иметь мать. Ведь вот когда я узнала о смерти мамы – в Усть-Камне, на поселении, – долго мучилась, хотела умереть сама, но потом постепенно возвратилась к жизни. Вдруг такое одиночество на пустой земле, адская боль, но нельзя же, боже мой, настолько бояться боли, чтобы совсем не думать о близких! Как им объяснить, не имея ни языка, ни рук? То, чего они боятся, не страшно. Это спасение. Николаев приехал вместе с Аней, с которой венчался в тюрьме после приговора, чтобы пойти с нею добровольно в Сибирь, и его встретили холодно, весьма холодно, никто не восторгался благородством и мужеством, доброе, глазастое, рябое лицо, хороший парень, истинный пролетарий, питерский, но нельзя простить того, что добровольно пошел в тюрьму, оставил боевой пост. Спорили неделями в избе у Южакова. Какие морозы! Белый туман. И полная тишина. Вдруг пушечный выстрел – лопается замерзшая земля. Сильный треск поблизости, от него вздрагиваешь, это трескается от мороза бревенчатая стена дома. Николаев наконец прощен, ему разрешено пользоваться библиотекой. Но через шесть лет снова тот же вопрос: можно ли уйти от борьбы? Аня умерла, умер ребеночек, ровесник Оли, Николаев от горя не может жить, вздумал покончить с собой. Время тяжелое, не ему одному невмочь – кончают с собой в Нерчинске, в Зерентуе и у нас. Иннокентий утопился в Енисее. Однако вокруг Николаева почему-то бешеный спор – имеет ли право? Накалилась борьба, ждем побоища. Николаев говорит: «Никто не может лишить человека права уйти. Когда жизнь теряет смысл». Застылое, обледенелое лицо, остановившийся взгляд. Он сидит перед нами готовым мертвецом. Поняли наконец, проку от него не будет. Такой человек в бою не союзник, а обуза. Из него вытекли все соки жизни. Как из меня. Так сильно он любил Аню. Борьбы нет, ничего нет, все кончилось, нет смысла, не нужно. А как же борьба до последнего вздоха? Нет, нет, кончилось, борьба исчезла. Нет никакой борьбы. Я сама дала ему револьвер. Они должны спокойно уехать завтрашним поездом, а я останусь здесь. Через три или четыре дня и меня здесь не будет. Револьвера не прошу. Просто уйти и оставить меня одну. Это единственно умное, что можно сделать. Как же дуракам объяснить?
2
Было так: она приехала по моему приглашению, мы купались, перебрались паромом на другой берег, потом она попросила Олега покатать ее на лодке и исчезла до двух часов ночи. Ну что это было, как не предательство? Но мне хотелось сказать, что я ее простил. Я в самом деле ее простил. Однако я никак не мог собраться с духом заговорить об этом и дотянул до того, что настала пора уходить. Усачев требовал: к двенадцати надо быть в казарме. Тут меня попросили залезть на антресоли в соседней комнате, я взял стремянку и полез. Я ворошил в потемках старые вещи, одно откладывал вглубь, другое бросал на пол, искали какой-то чемодан. Стоя на верхней перекладине и залезши с головой во мрак антресолей, я сказал Оле, которая держала стремянку:
– Между прочим, я тебя простил.
Возможно, она меня не слышала, потому что не ответила. Выбираясь с чемоданом в руке, я вновь сказал, обращаясь в глубину антресолей:
– Я тебя простил.
Она и теперь молчала. Я спрыгнул на пол, уронив чемодан, от которого шарахнулась пыль. Оля, присев, раскрыла его, он был набит истлевшей обувью. Она стала выбрасывать обувь. Когда выбросила последнее, сказала холодно:
– Не знаю, за что меня прощать.
Почему-то я обрадовался. Поспешно стал думать: как ей сказать самое главное? Ведь мы расставались, и я обязан был сказать.