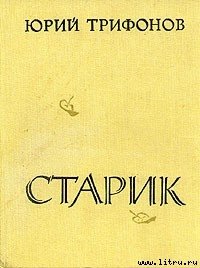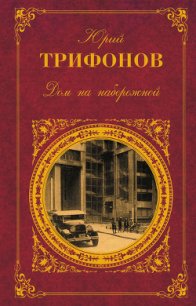Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (читаем книги TXT) 📗
– Оля, – сказал я, – мы, может, не увидимся больше никогда, я хочу, чтоб ты знала...
– Что?
Я запнулся и не нашел лучшего, как пробормотать:
– Что я тебя простил.
Оля улыбнулась, хотела сказать что-то интересное и важное для меня, но тут в комнату вошли Ольга Анисимовна и Маркуша. Маркуша был толстый, румяный, рыжий, в тесной гимнастерке, которая обтягивала его животик и круглые плечи, и в старых, разбитых сапогах. Он служил в зенитных частях в Москве, но на солдата был не похож. В руках Маркуша держал большую брезентовую сумку.
– Тетя Оля, я возьму только самое ценное, – говорил Маркуша, подойдя к шкафу и поспешно выхватывая оттуда книги и бросая их к сумку. – Потом верну, разумеется. А то пропадут. Надо же спасать...
Он бросал книги, почти их не разглядывая. Наверное, прекрасно в книгах разбирался. Вдруг, заметив меня, крикнул:
– А, здравствуйте, доктор! И вы здесь?
– Маркуша, – сказала Ольга Анисимовна, – а что у вас говорят? О положении дел?
– Положение суровое, – сказал Маркуша и запел: – Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас...
– Ну, а все-таки?
– Не могу знать. Я не бог, не царь и не герой. А эти книжечки подальше! – Он бросил на пол две книжки в бумажных переплетах. – Сжечь немедленно! Хотя, собственно говоря... – бормотал что-то, как бы споря сам с собой, и пожимал плечами. Ольга Анисимовна вышла в другую комнату и громко заговорила с матерью. Оля вышла за ней. Маркуша шепнул мне: – Немцы в сорока километрах. Вам это известно, доктор?
Ольга Анисимовна вернулась и сказала, что сегодня ехать все равно не удастся, поедут следующим эшелоном, через три дня. Видно было, что она успокоилась. Решение принято. Спокойным голосом обратилась к дочери:
– Пойди поставь, пожалуйста, чайник. Наконец можно выпить чайку. Только ступай тихо, мама хочет поспать. Пускай подремлет. Маркуша, в ванной стоят два чистых ведра, набери в них, пожалуйста, воду. На всякий случай.
Елизавета Гавриловна не хотела спать. Она закрыла глаза потому, что стало скучно смотреть на суету людей в комнате. Увидела: сырой, вымерзший за зиму откос, ярчайшая синева, бревна, вкопанные в землю, в глубине двора дом, собака на крыльце, злобная ездовая лайка, и захолонуло от страха сердце. Потому что пора решаться. Идти или нет? Подняться по крыльцу или плюнуть на деньги, вернуться в укромное место и ждать утра? Утром придет пароход. Завтра она и Даша, переодетые монашками, должны с двумя матросами пробраться туда и спрятаться в кочегарке. В Тобольске осмотр, матросы обещают спасти, вынимается доска, есть лаз в каморку, которая рядом с колесом. Туда никто не проникнет! И вдруг известие: вам деньги, лежат в волостном правлении, старшина просил передать. Какие деньги, откуда, совершенно непонятно, идти за ними или тут хитрая западня? Деньги нужны позарез, а уж тем более такие большие, восемьдесят рублей, и не с кем посоветоваться. Идти или нет? Даша хмурит сухонькое скуластое пермяцкое личико. «Иди!» Старая боль. Умерла в двадцать первом году на Украине. Деньги нужны, чтобы добраться до Тюмени, оттуда в Екатеринбург, потом в Питер, волостной старшина все делает медленно, перебирает негнущимися корявыми пальцами пачку переводов, читает будто по складам, смотрит бумаги, очищает перо и уставился пьяным, болотным оком. «Откуда ждете деньги?» Болотное, мутное око сощуривается испытующе. За окном ярчайшая синь, завтра придет пароход, громадная жизнь, Оля никогда не узнает этой жизни, внучка Оля тоже никогда не узнает, они глупы, родные мои, нету слез в глазах, но надо плакать, плакать перед разлукой, пароход причалил, трап переброшен, надо плакать, прощаясь. «Я жду деньги из разных мест. У меня много друзей. Все пришли меня провожать. Жду деньги из Петербурга, из Москвы, из Ростова, Вятки, может быть, они из Перми или Елизаветграда». Старшина раздумывает. Снова роется корявыми пальцами в бумагах. Сощуривает мутный глаз. Всякую секунду могут вломиться стражники, которых он вызвал, мы с Дашей скрываемся третий день, убежали из-под надзора, и эти деньги, чтобы нас заманить в волость, арестовать, но вот они, вот деньги, можно взять их в руки и бежать опрометью. «Пересчитайте». – «Да не нужно! Я верю!» – «Пересчитайте, сказано!» Ледяной ветер врывается в каморку, гудит машина, шлепает колесо, брызги влетают сквозь щель, громадная жизнь впереди, она останавливается, как колесо, просто брызги перестают лететь, машина не гудит, бедные дети пьют чай, будто ничего не случилось. Они погибают, погибают, они погибают, прикованные к постели, не могут двигаться, говорить, я должна кормить их с ложечки, убирать за ними, переодевать их, выносить судно, должна но глазам угадывать, что они хотят мне сказать, несчастные девочки, как они смогут жить без меня...
Наша казарма помещалась на Якиманке, в старом каменном здании, где была когда-то монастырская гостиница, а перед войной в этих сводчатых комнатах располагался детский сад. И вот теперь казарма пожарной роты. Меня встретили усмешками, хохотом, кто-то крикнул: «Писатель пришел!» А Лашпек подбежал и сунул мне под нос кулак: «Я те дам «лягушачий рот»! Я те пасть порву за такие слова!» Меня оледенила ужасная догадка – они нашли мой дневник! Я хранил его под матрацем. Ничего более дорогого и сокровенного в жизни не было: я писал тайно и наспех, иногда зашифровывал, что было сладостью часов дежурства в холодной проходной, где на шкафчике, украшенном зайцами и грибочками, оставшимися от детского сада, стоял телефон и где висели две картинки: «Аленушка» Васнецова и действия противопожарного взвода. Ничего особенного я про ребят не писал. Ну, про Леню Колыванова, что он хитрец, норовит делать работу полегче, на дровяном складе выбирает небольшие чурбаки и таскает недалеко. Про Гудыма написал с сочувствием, над ним все издеваются, а он не может за себя постоять. Про Лашпека, что у него лягушачий рот и что он, видать, из блатных. Да ведь чистая правда! Лашпек известен во всех дворах между Якиманкой и Большой Полянкой. Он грабил пацанов, которые приходили в кино «Авангард» за билетами. А про остальных и про Усачева я написал, и вовсе неплохо. И, однако, все они теперь смотрели на меня злобно. Леня Колыванов дразнил меня зеленой тетрадкой, прыгая у дальней стены за кроватями.
– Отдай! – крикнул я, ринувшись к Колыванову. Кто-то подставил мне ногу, и я упал. Теперь Лашпек размахивал зеленой тетрадкой перед моим носом.
– А дневник-то останется у нас! В нашем архиве! – говорил он насмешливо. – Тут про одну Оленьку писано. Я ее знаю, она в четырнадцатой школе училась, десятый кончила. Можно ей показать, на крайний случай. Более, говорит, подлого человека, чем О., я в жизни не встречал...
– Отдай, скотина! – крикнул я, сидя там, куда грохнулся, между кроватями.
– Еще чего! А ключи от квартиры, где деньги лежат, не хочешь? Мы почитаем! Только почерк у тебя хреновый, как курица лапой. «Бабушка, – говорит, – против того, чтоб я ее приглашал, потому что Плетневы не выдержали испытания...» Это кто такие – Плетневы?
Тут меня будто чем-то подбросило с пола, я прыгнул к Лашпеку, схватил его за горло, повалил на кровать, он со страшной силой ударил меня в глаз, но я продолжал его душить, кто-то тянул меня сзади за ногу, он опять ударил меня в глаз, мы скатились на пол, он хрипел, плевался, его лапа с ногтями впилась в мое лицо, и мы услышали команду:
– Отставить!
Наш коротконогий пузанчик Усачев стоял в дверях и смотрел на нас темным, печальным взглядом.
– Баловство кончай. С баловством опоздали... – Голос у него всегда глухой, плохо внятный, как будто он говорил со сна и не прокашлялся. – Собирайтесь на дровяной склад обратно. Четыре вагона наши. Второй взвод на дежурство, бери гидропульт, рукав, машина стоит. А двоих требовается... – Он обвел всех глазами, остановился на нас с Лашпеком. – Вот вы, лохматые, которые чертили... Пойдете в военкомат разносить повестки.