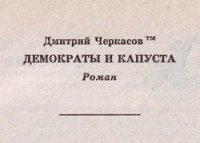Могли ли демократы написать гимн... - Маканин Владимир Семенович (книги серии онлайн txt) 📗
— Я слышу...
— Лёльк. Ни-че-го!.. Что-то... Хоть что-то! Хоть что-то в жизни может перемениться?.. Я кричу, я спрашиваю вас, жопы, может хоть что-то перемениться в нашем любимом отечестве?
Кричит! Как кричит!..
Мне (в постели... и во тьме) это стало напоминать орущий телевизор у пьяных соседей. Когда очень слышно — но не видно. Когда хочется дать кулаком в стену. Нет, такой не уймется. И все гимн, гимн... Почему не герб? Для разнообразия. Прямо сумасшедший дом... Не люблю телевизор. Я стар и слишком перекормлен одиночеством, чтобы еще слушать чьи-то бредни. Люблю ночную прогулку... Свежий ветерок. Луну.
Но тем удивительнее, что меня стало забирать. Я стал прислушиваться.
— Лёльк! Лёльк! — в это время вопил он. — Да мы-то чем их лучше?! Слышишь?.. Ты слышишь меня?!
Кричит:
— Да?.. Сочинить самим слова? Куплеты? — Это он кричал политику на экране. — И еще заодно музыку?.. А могли ли мы сочинить — могли ли мы сами написать слова? Спрашиваю — могли ли?
И вот тут он впрямую обрушился на самого себя. Его несло:
— И потому я признабюсь не через двадцать лет, а сейчас — мне нечего было бы написать в гимне. НЕ-ЧЕ-ГО. Слышишь, Лёльк!.. Но ведь и честные, мы никогда всего не говорим. Мы недоговариваем. Мы прячемся... Гимн — это же так просто. Это же понятно ребенку. Школьнику! В младших классах!.. Гимн — это же значит надо что-то славить. Хвалить. Воспевать... А что я мог бы честно... честно славить в этой стране? — В голосе вдруг послышались слезы.
Пьяные, но ведь слезы.
— Кто меня упрекнет? Как на духу... Но чем искреннее, тем больнее... Что? Что я могу славить в родном отечестве?.. Ответь прямо, Лёльк!..
Ответить прямо она не могла. Но его оклики, его бесконечные «Лёльк! Лёльк!..» оказались для нас все же с пользой. Лиля Сергеевна пришла наконец в себя. Она села в постели. Страх отступил...
— Тс-с... — Она нисколько не резко, но настойчиво прихватила меня за кисть руки. И дерг-дерг — подымайся... Подымайся, милый! Подъем!
Я сел. Соображаю... А она жестом во тьме (очень понятным движением рук от себя) показывает — уходи, милый, пора!.. Гонит?.. Ну да... Мол, пора расстаться. Мол, лезь в окно... Да, да. Именно в окно, милый. В окно!..
В полутьме мы яростно жестикулируем. Я кручу пальцем у виска. Я не придурок... В окно — а куда дальше? Этаж высок... Или я кот? Или мне там заночевать? Свернувшись на скосе крыши. Обняв трубу?
Однако с женщиной в ее доме долго не поспоришь. Конечно, не поспоришь! (Но, может быть, пенсионеру удастся удачно спрыгнуть?..) Я вяло одевался.
А Н. внизу за это время разошелся вовсю:
— Как?.. Как написать гимн, если... Все и всё. Власть — это понятно. Лёльк! Но ведь я могу перечислять и перечислять. Я честен!
И он начал:
— Власть — нам чужда. Армия — ненавистна. История — отвратительна. Это уже в-третьих!.. Есть и в-четвертых... И в-пятых. А ведь есть еще и в-главных — народ!
Стало слышно, как, яростно вопя, он вновь забегал из угла в угол. Затопал.
— Лёльк! Народ — пугает... Народ — страшит. Пугает нас своей темнотой. Своим черноземом. Лёльк! Своей голодной злобой. Своими инстинктами!.. Надо же уметь признаться, в конце концов.
В покаянии как в покаянии. Так надо. Когда мало одних поклонов. (Когда для полноты хочется еще и башкой о пол! О ступени!) И вдруг... молчание. Раскричавшийся Н. вдруг смолкает. Как оборвало... Похоже, он плюхнулся в кресло. Выдохся! Как с обрыва упал.
Стал слышен (негромкий) телевизор. И только музыка... Шопен... Мы с Лилей настороженно ждем. (Затаились.) Но уж слишком затянулось его молчание. Три минуты... Пять...
Луна. Вот она... Вышла наконец и она, родная, к нашим забытым окнам. Как не хватало ее молчаливого сияния. (Ее одобрения.) Глядит на нас с небес прямо и ясно. И что ей гимн!
Когда я перевожу глаза — Лиля стоит в лунном луче совершенно нагая. Похоже, она задумалась.
А я делаю свой первый шаг к окну... Посмотреть, высоко ли?
— Что ты? Зачем? — спрашивает Лиля шепотом.
Тоже шагнула. Прижалась... И шепчет, прижавшись, — мол, он уже попросту спит. «Что?» — «Вот так в кресле и уснет. Он часто так...» — «Не понял». — «Что тут понимать. Уснул в кресле». Под наш шепоток Лиля Сергеевна начинает быстро-быстро сдергивать с меня рубашку, которую я только что надел. Я помогаю. Затем мы вдвоем стягиваем мои брюки... Я было подумал, что чувство... Что ее вдруг разобрало чувство. Однако нет. Здесь лишь милая женская забота. Как всё вовремя!.. Слышу ее озабоченно-разумный шепот: «Не спеши. Надо выждать... Пусть уснет крепко». — «Понял». — «Он уснет, и можно уйти. Уйдешь по-людски». (Не выпрыгивая. Не на четыре лапы.)
А теперь и чувство подоспело, и тоже при ней. Или лучше сказать — при нас. Мы опять валимся на постель... Правда, теперь опаска. Осторожность! Мы вдруг не сговариваясь перебираемся с постели на пол. Мы спустились... Мы в зазоре — между окном и постелью. В яме. Здесь на полу (если что) нас не так видно.
Здесь и луна сильнее. Мощнее!.. Я чувствую прилив сил... И первое мое движение (как всегда при луне) — нерешительно-нежное. Я своего первого движения боюсь. Нежен, словно вхожу в воду. Вхожу ночью — в темную воду знакомой реки.
И как выдох на вдох — она отвечает мне сразу же: «А-аах...»
Да и что еще было делать?.. Если мне пути домой нет. Человеку не раствориться во тьме.
А на полу нам совсем неплохо. После постели даже изысканно хорошо. И свежо. Это как бы в чуть прохладной яме — меж опустевшей теперь кроватью и окном. Если пьяноватый Н. все-таки поднимется по лестнице, он нас увидит... Но не сразу.
Вероятно, из той же сомнительной профилактики (и отчасти из-за тесноты) я нахожусь в странной позе: одна нога на полу и полностью принадлежит Лиле, а другая где-то наверху. Нога моя, которая наверху, совсем отдельна. Ее нет. Нога где-то там. Поднята и опирается на край постели. При этом мы трудимся. Мы с Лилей все время в движении... И чем при случае столь странная поза нам поможет? — это вопрос. Чтобы ее мужик, войдя, подумал, что я с одной ногой? и пожалел соперника?.. Но ведь в темноте... И кто сказал, что одноногих не бьют. Если их застанут. Это я уже пошучивал. (Ей нравилось.)
Смеется:
— Зачем ты в такие минуты несешь чушь?
И шепчет ласково:
— Одноруких действительно не бьют, я читала.
Мы вдруг слышим, как он гремит бутылками, доставая холодное пиво. Надо же! Очнулся... Пьет... И что теперь?.. А пиво, пиво! Так вкусно булькало в его проснувшемся горле.
В параллель с этими булькающими звуками и нас разобрало. Я коснулся ее удивительного живота... Пока что рукой. Случайно. Бережно... И все равно обмер. И пиво забыл... И сразу же обвал этих наших вечных микродвижений. Локти... Коленки... Губы... Пальцы... Запястья... Две шеи, две головы — все задвигалось. Тело угадывает тело без сговора. Все соприкасается, ласкается, трется. И совсем без углов, словно спим безотрывно два-три года.
Вот только это, пожалуй, излишне:
— Ах-аах... Ах-аах!.. — Лилино милое, но громкое аханье.
Нас, я думаю, возбудила сама смена обстоятельств — скорый страх и скорая же отмена всякого страха. Я это вполне понимаю. Это неизбежно. Адреналин... Но зачем именно сейчас такой чувственный взлет? Зачем звуки?.. Это лишнее, лишнее!
Лиля Сергеевна уже не мне ахала. И даже не самой себе. Она ахала небесам. (Которые все-таки нас не бросили. Не подвели.) Женщина... Ах-аах. Ах-ааааах!
— Лёльк! — кричит он. — По какой?.. Я же слышу, у тебя там какая-то сексуха.
Я дергаю: «Да откликнись же! Откликнись ему!..» — «А?» Она не соображает. Женщина! Слишком счастлива. «А?» — и тогда я ее за жаркое ухо. За ушко! Еще и еще разок.
— Лёльк! — крик снизу. — По какой смотришь?
— По Рен... По Рен-ти-ви, — кое-как произносит она.
— Нет там ничего по Рен! Это не Рен!.. Я же слышал, у тебя что-то мощное, надо же как!
Восторгаясь, он снова ищет в холодильнике. Двигает бутылки.