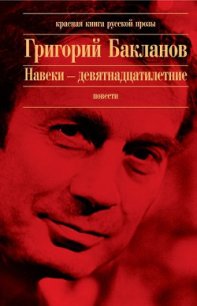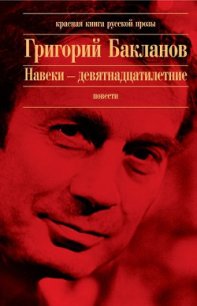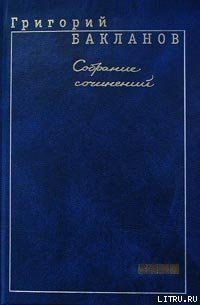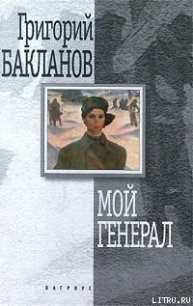Навеки — девятнадцатилетние - Бакланов Григорий Яковлевич (книга регистрации txt) 📗
— Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать, — сказал он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.
Таранов сам выбрал дом для ночёвки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока, украинка, статная, гладко причёсанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам: по крайней мере не набьётся полная хата войск. И вскоре Таранов, поперёк повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин, вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной её, привлечённый запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на стол.
— Ты лягай спать, горе моё! — прикрикнула хозяйка и, как будто злясь на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно, испуганно глянула на Таранова.
Сбегав через дорогу к шофёрам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, всыпал в неё горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда вернулся, за столом сидели уже трое.
— Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала! — поблёскивая золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.
Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна, хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив чёрные ресницы. Когда Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза синие-синие. Заговорила первая:
— Мы не взорвемось?
— Что вы! — стал успокаивать Третьяков. — Проверено на фронте. Соли всыпал в бензин, ни за что не взорвётся.
И споткнулся о её взгляд. Она снисходительно улыбалась:
— Я ж така трусиха, усего боюсь… А мать чёрными глазами стерегла её и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемёта:
— Тут нимцы увходять, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу. Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцять рокив и тэ, малэ… Шо мэни робить?
— Тебя Оксаной зовут? — спросил Третьяков тихо.
— Оксана. А вас?
— Володя.
Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.
— Оксаночка! — позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула, улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.
— Ты не теряйся, лейтенант! — шепнул Таранов. Они двое сидели за столом, ждали. За дверью слышен был приглушённый голос хозяйки: она что-то быстро говорила, ни одного слова не разобрать. — На фронт едем. Он подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.
— Может, последний день так, может, завтра убьют, а?
И громко позвал:
— Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо, нехорошо. Мы ведь обидеться можем.
Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.
— А где же Оксаночка? — забеспокоился Таранов.
— Спать полягали. — Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом касалась его плеча. — От если б вы были врачи…
— А что? Какая болезнь? — спрашивал Таранов.
— Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали б освобождение дивчине.
— А мы и есть врачи! — Таранов усиленно подмигивал ему, глазами указывал на дверь, за которой была Оксана.
— То вы шуткуете! — И полной ручкой махала на него. Таранов ручку перехватил, к себе потянул. — У врачей погоны зовсим не такие.
— А какие же они у врачей?
— Манэсеньки, манэсеньки. — И пальцем другой руки рисовала у него на плече, на погоне. — Манэсеньки, манэсеньки…
— А не большесиньки? — У Таранова влажно поблёскивали золотые коронки, к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка. — Не большесиньки?
Разговор уже шёл глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдёт покурить. В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь, слышал приглушённый голос Таранова, женский смех.
Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от неё. А этот обрадовался: «На фронт едем…»
Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной стороне. Обмытый дождём узкий серп народившегося месяца, до краёв налитый синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище.
Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шофёры у машин. Третьяков пошёл туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой лестнице на сеновал, на ощупь сгрёб охапку сена, пахнущего пылью, лёг, укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту — и скорей бы. Засыпая, слышал внизу голоса шофёров, медленное гудение самолёта где-то высоко над крышей.
А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком, Третьяков явился рано, писаря только ещё рассаживались за столами. После завтрака им ни за что браться не хотелось до прихода начальства, они с деловым видом открывали и захлопывали ящики.
Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батарейно приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулемётов, но слышней жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить её.
Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастёрки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него. Вытянул всю как в дёгте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой.
Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтёр пальцы о побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз — белый сок вскипел на зубах.
— Так — какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припёр? — спросил Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчёсанную чубатую голову, осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищал.
Семиошкин поёрзал штанами по подоконнику:
— «Доксу»!
— Им везёт… разведчикам. — Калистратов на свет поглядел в отверстие прочищенный мундштучок. — Впереди идут, все ихнее. Чего им?..
Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряжённых, проходит через штаб по дороге из училища на фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в обратный путь извещение, вычёркивая его из списков, снимая со всех видов довольствия, более ненужного ему.
И ещё он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады — писарей из-за столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем: тук… тук… — литеры надолго прилипали к ленте.
Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: «Калистратов, скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода». И вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за машинки тоже поглядеть, но ему сказали: