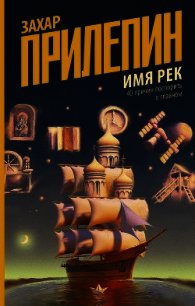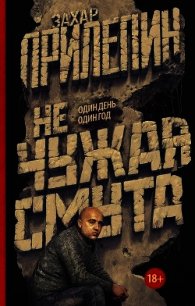Собаки и другие люди - Прилепин Захар (онлайн книги бесплатно полные TXT, FB2) 📗
Он понюхал её.
Не поднимая на меня взгляда, начал с бережным интересом есть. Так советские старики, приехав из деревни, впервые пробовали городскую еду.
Вылизав всю банку, взглянул на меня тихими глазами.
Я поцеловал его в сморщенный негритянский лоб.
Шерсть пахла бельём. Даже собачьи запахи покидали его.
Я перебирал снимки его юности – и удивительным образом выходило, что жизнь пса не была короткой. Напротив, она казалась мне очень долгой.
Никак не мог догадаться, в чём тут разгадка.
Наконец, понял: живое существо не поверяется календарём. Счёт идёт на минуты счастья, что ты испытал рядом с ним.
Выходило так, что с Ниггой мне было счастливо – всегда.
Игры и прогулки с моей чёрной собакой вспыхивали в сознании, как самая счастливая детская карусель. Вокруг этой карусели сменялись времена года. Я видел его то в снегу, то в траве, то идущего по краю огромной лужи. Обойдя лужу, он тут же оглядывался: не упал ли я в эту грязь. Не пора ли меня спасать.
…Теперь Нигга даже не хотел выходить на улицу.
Я открывал ему дверь – и он стоял в нерешительности, глядя на дневной свет. Завидев Ниггу, с улицы лаяли другие наши собаки, вызывая старшего товарища на игру, но его это только пугало.
Едва ли не силком я выволакивал Ниггу на выгул.
Желая его повеселить, в компанию к нему брал бассетов Зольку и Тольку. Вскоре стало понятно, что их темперамент для Нигги невыносим. Он буквально страдал, ища место, где от них можно спрятаться, чтоб не видеть этих пёстрых, кружащих голову движений.
Мы поскорей возвращались домой.
Нигга сразу же шёл к своему вороху белья и, чуть пристанывая, ложился там. Бельё пахло хозяйкой, хозяином, их детьми, человеком, – жизнью.
Он коротко и беспокойно, как в полубреду, спал, подрагивая ногами. Вскоре, устав от своих снов, и попадая по пути лбом в косяк двери, брёл в коридор.
Долго подыскивал себе место.
В детстве этот коридор казался ему длинным. Он мог с разбега пронестись по нему туда и обратно. Теперь коридор был короток, тускл, бесприютен.
Ложась поперёк человеческого пути, он ронял свои кости, словно бы принёс их в мешке, а не в упругом теле, совсем ещё недавно состоявшем из перекрученных, бугрящихся мышц.
Когда с улицы кто-то заходил, он с трудом поднимал голову, и всякий раз подолгу вглядывался в человека, нерешительно повиливая слабым хвостом.
С улицы несло сквозняком, и, чувствуя его, Нигга снова собирал свои кости в мешок. Раздумывал, с какой ноги шагнуть. Наконец, медленно шёл куда-то, где ему не дуло.
Ударили последние морозы.
Наш старый дом едва справлялся, теряя тепло час от часу.
Днём мы затопили печь: горячих батарей недоставало даже на то, чтоб поддерживать на первом этаже 12 градусов.
Нигга лежал возле печи, глядя, как я подкладываю дрова.
Отогревшись, он поднялся и, выйдя на середину кухни, даже не поднимая ноги, нацедил целую лужу.
– Нигга, – опешила жена. – Что ты натворил такое?
Она сидела за кухонным столом, строго глядя на него.
Бестолково потоптавшись на месте, Нигга прошёл в угол и сел там, спиной к людям. Спина его была так беззащитна и слаба, что жена тут же вышла.
Я вздохнул и отправился за тряпкой.
Пока вытирал, он так и не двинулся с места.
– Нигга, – позвал я.
Пёс не откликнулся, глядя перед собой.
– Ну, ничего, Нигга, – сказал я. – Люди и не такое делают.
Закончив, вышел на улицу, и снегом растёр лицо.
Оглянулся – второпях оставил дверь открытой.
Нигга на сгибающихся ногах шёл к прачечной.
Та оказалась заперта.
Он стоял, ожидая, когда его туда запустят. Но там никого не было, и свет не горел.
Вечером, решив погреть и бассетов, мы запустили их в дом.
Они привычно навели несусветную суету. Носясь туда и сюда, бассеты не трогали Ниггу, но тот всё равно сердился.
Сначала ворчал. Потом вдруг рыкнул – и рык его был, как в дни былые, грозен.
Бассеты, однако, не успокоились.
Едва дождавшись возможности, Нигга, рявкнув, хватанул одного из бассетов за бок.
Ошарашенный атакой, тот отскочил в сторону.
Нигга поднял голову и заклекотал, как птица.
Он ругался последними собачьими словами.
Он клял весь свет.
Ему были омерзительны эти, пахнущие морозом, дурноголовые собаки. Их несусветный во все стороны бег. Свисающие во все стороны уши. Их розовые языки.
Ему было, наконец, отвратительно то будущее, которое они увидят, а он – нет.
Он не застанет ни весеннего леса, ни половодья. Не первых почек, ни цветов, ни мха. Ни муравьиных куч, ни всего того, чему не знал имени – но любил: как то немногое, что выпало ему увидеть.
…Вечером, зайдя к нему, я увидел, что он свернулся, пытаясь собрать себя в комок. Коснувшись его спины, я отдёрнул руку. Он был жив, но тело его утратило тепло.
Я накрыл его одеялом, и он не шелохнулся.
Голова его виднелась из-под одеяла, как в старой сказке, сюжет которой я забыл, и героев не помнил.
Нигга ушёл спустя несколько дней.
Он умер во сне, никого не позвав и ни с кем не попрощавшись.
Утром лежал, как чёрное изваяние. Огромные щёки, в которые я, не ведая брезгливости, целовал его столько раз, были недвижимы.
…Кержака мы привезли домой в том же марте.
Птиц ещё не было слышно. Деревья тоже пока не расшумелись по-весеннему. Река оставалась беззвучной. И всё равно казалось, что мир дышит: сразу весь.
Незримая, оживала вода, готовясь крушить лёд.
Несмотря на многомесячное отсутствие, Кержак узнал свою конуру, и занял её с явным, как я заметил, удовлетворением.
Но, словно вспомнив о чём-то, тут же выбрался на улицу.
Неспешно подошёл к другой в том же вольере – к пустующей конуре Нигги – и заглянул внутрь.
Долго обнюхивал порог и полог, но ничего не услышал.
Весна перебивала все запахи.
Дождевой пограничник
Кромешный, стегает ливень, – а он лежит и не уходит в конуру.
Ослабев, дождь шатается на ветру, налетая порывами.
Он всё лежит.
Вернув себе силу, дождь долбит так, словно хочет перебить всю листву на деревьях.
Вода объяла его до самой души. Ему всё равно.
Выйду, окликну – поднимет глаза. На бровях – бисер.
Тяну за мокрый воротник: пойдём в баню, там ещё тепло, будешь сохнуть.
Нехотя встаёт. Шерсть отекает ручьями.
Несёт свою шубу, ставшую впятеро тяжелей.
Зовут – Кержак. Порода – тибетский мастиф.
После дождя, наутро – пахучий медвежий клубок с торчащим наружу рыжим носом.
…В юности, год назад, заболел, и должен был умереть.
Его кромсали, пересобирали, сшивали заново.
Покидал сознание, а затем, медленно пробуждаясь, возвращался в мир запахов, цветов, людей.
Но следом шли очередные, вводящие в исступление припадки боли, мытарства по больничным коридорам, хирургические кабинеты с тазами пыточных инструментов, обрушения в небытие.
Вернулся домой с того света.
Пока пса не было в нашем деревенском раю, местные обитатели изменились.
Бассеты Золька и Толька выросли, стали ещё громче и веселей.
Веселье Кержаку – претило. Он избегал их игр.
Появились рыжий кот Мур и белая кошка Ляля. Кошку он, как и подобает мертвецу, не видел, но с котом мирился – тот знал заветное слово.
Краснохвостый попугай Хьюи теперь разговаривал, помня всех живущих в доме по именам.
Чёрный мастино наполетано Нигга, самый лучший товарищ Кержака, – умер.
Я отвёл Кержака на лесную могилу.
– Вот, – сказал. – Тут наш Нигга. Поздоровайся, он тебя любил.
Лес Кержака не интересовал. Ему не было дела до птиц и звериных следов. Он избегал цветов и трав, ползущих как черви в сторону солнца.