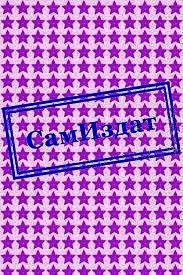Мама, я люблю тебя - Сароян Уильям (список книг .txt) 📗
— Цифра, — попросила мисс Крэншоу.
— Нам нужно примерно семьдесят пять тысяч долларов. Я вложил все, что у меня было: около семнадцати тысяч, от десяти бекеров получил еще десять тысяч, и еще три или четыре обещано — но это все. Я рассчитывал, что один-два бекера вложат тысяч по двадцать — тридцать (то есть от группы вкладчиков), но это не произошло и, судя по всему, не произойдет.
— И какие у тебя планы?
— Едем в Филадельфию — это определенно.
— А потом?
— Посмотрим. Если зрителям пьеса понравится, рецензии будут хорошие, мы легко добудем любую сумму, какую только назовем.
— А если плохие?
— Не знаю. Я никогда еще не видел бекеров, которые бы так боялись рискнуть. Мой прием обернулся сплошным провалом.
— Тут есть и моя вина, — сказал Эмерсон Талли.
— Отнюдь нет, — возразил Майк.
— Я не умею разговаривать с такой публикой. Я чувствую, что говорил не то, что надо. Я говорил, что, по-моему, эта пьеса хорошая, но я не знаю, будет ли она иметь успех. Это была моя ошибка, и ведь все они это слышали. Я-то думал, они поймут, что никто не может знать заранее, будет ли новая пьеса иметь успех, но, по-видимому, это их напугало. Прости меня, Майк. Может, тебе снова попробовать — без меня?
— Не нужно; они уже побывали у меня, одного раза вполне достаточно. Остается надеяться на Филадельфию. Премьеру бекеры-скептики не пропустят, и если все пойдет хорошо, они раскошелятся.
Мы поели прямо в кабинете, а когда труппа вернулась, начали репетировать снова. Все понимали: что-то неладно, и все равно старались. А когда мы кончили и стали расходиться, то прощались вполголоса, не так, как обычно.
Когда мы с Мамой Девочкой вернулись в «Пьер», нас ждали письма: мне — от моего отца, и в том же конверте второе, от Питера Боливия Сельское Хозяйство. Мой отец писал, что Оскар Бейли прислал ему магнитофонную запись музыки, но ему пришлось очень долго искать магнитофон, на котором можно ее прослушать. В конце концов он его нашел и музыку прослушал, и в общем доволен, но все же написал Оскару длинное письмо, где говорится, как сделать ее еще лучше. А мой брат в своем письме рассказывал, как он научил нескольких мальчиков-парижан играть в бейсбол, и что один из них, его зовут Джек, потрясно подает. Я решила, что сразу напишу им обоим, отцу и брату. Мне хотелось рассказать моему брату, что я видела потрясную встречу двух команд Национальной лиги, «Ловкачей» и «Гигантов».
Письмо Маме Девочке пришло в огромном конверте из голубой бумаги, которая на ощупь была как шелк. На конверте стояли написанные от руки огромные буквы: Г. Д.
— Ты только послушай, — сказала Мама Девочка. — «Во имя незабываемых дней, во имя нашего прошлого позвони мне, как только получишь это письмо. Вопрос жизни и смерти, но мне самой звонить тебе унизительно, потому что у меня не осталось никаких сомнений в том, что мой звонок будет тебе очень неприятен. Глэд».
— Кто это?
— Глэдис, разумеется. Я ее называла так, когда мы с ней были совсем маленькие. И хватило же наглости послать мне такую оскорбительную записку!
— Позвони ей.
— Никогда! Теперь-то уж я разозлилась на нее по-настоящему.
— Нет, позвони.
— Да чего ради?
— Это вопрос жизни и смерти.
— Это вопрос выеденного яйца — как почти всегда все случаи. Можно мне прочесть твои письма?
— Что за вопрос! Оба передают тебе привет.
Мы поменялись письмами, и я прочла письмо Глэдис Дюбарри. У нее крупный почерк, и она исписала им весь большой, сложенный вдвое квадрат гладкой-гладкой голубой бумаги с тоненькой красной каемочкой по краям. Несколько слов по всей первой странице, несколько — по всей второй, и по всей последней — ее имя.
Зазвонил телефон, и Мама Девочка поговорила с мисс Крэншоу, а потом сказала:
— Я схожу к мисс Крэншоу на минутку.
Когда она ушла, я вытащила из бюро несколько листов бумаги со знаком отеля и начала писать письмо отцу, но пишу я медленно, а сказать мне хотелось в письме так много, что я не смогла написать ничего — только «Дорогой папа, я люблю тебя» — и на этом остановилась.
Я подошла к телефону и взяла трубку, но, пожалуй, не знала даже, что я собираюсь сделать. Пожалуй, на самом деле мне хотелось поговорить со своим отцом, но я знала, что этого мне делать нельзя, и когда телефонистка ответила, мне вспомнился только номер Глэдис Дюбарри, и его я сказала телефонистке.
Сразу после одного гудка трубку подняли — так бывает, когда звонка ждут. Мама Девочка тоже иногда так делает, но большей частью она не берет трубку сразу.
— Глэдис?
— Я. Это ты, Лягушонок?
— Да.
— Ужасно рада твоему звонку, потому что мне нужно поговорить с твоей матерью.
Я не знала, что на это ответить, и сказала:
— Ей пришлось пойти на минутку в одно место тут недалеко по коридору. Она только что получила твое письмо.
— Недалеко по коридору? Но разве в вашем номере нет ванной?
Она становилась похожей на себя, и от этого я себя почувствовала намного лучше.
— Конечно есть, — ответила я. — Она пошла к мисс Крэншоу.
— К кому?
— К Кэйт Крэншоу, величайшей в мире актрисе-педагогу. Она знает все про театр и про что хочешь. Я люблю ее.
— Ты всех любишь.
— А вот и нет — немногих. Нравятся мне многие. А остальных я не знаю.
— А ненавидишь ты кого?
— Никого.
— А я всех ненавижу, — сказала Глэдис.
— Неправда.
— Всех, кроме тебя, Лягушонок. А больше всего я ненавижу себя.
— Неправда.
— Нет, правда.
— Почему?
— Ненавижу — и все. И пожалуй, всегда ненавидела. Мне от себя тошно, и я не знаю, что мне делать.
— Выпей кока-колы.
— Только что пила. Не помогло.
— Тогда сходи в церковь.
— В понедельник? Я и в воскресенье не была.
— А разве нельзя пойти в понедельник?
— Зачем? Ведь там сейчас никого нет.
— Зато есть церковь.
— Ну и что?
— А то, что, если ты пойдешь, ты сможешь помолиться и перестань всех ненавидеть.
— А я не хочу переставать. Мне нравится всех ненавидеть, мне не нравится только, что я ненавижу себя. А потом, в церкви меня всегда разбирает смех.
— Почему? Мне там бывало смешно, только когда я была совсем маленькая. Что с тобой такое, Глэдис?
— Это все Хо виноват — как мы с ним поссорились, так он с тех пор со мной и не разговаривает.
— А ты хочешь, чтобы он с тобой разговаривал?
— Конечно хочу. Ведь мы женаты.
— Так почему ты сама не заговоришь с ним?
— Не могу, слишком будет унизительно.
— А еще что с тобой?
— А разве этого не достаточно? Я всех ненавижу, а Хо со мной не разговаривает.
— У вас еще нет сына?
— Еще нет месяца, как я вышла замуж.
— Ну, тогда дочери.
— Нельзя заиметь сына или дочь за один месяц.
— Можно, если захочешь. Ты просто не хочешь, вот и все.
— Даже если очень хочешь, за месяц — никак нельзя.
— А ты сделай ему сюрприз, он будет страшно рад.
— Вот уж это точно.
— Просто приведи к нему сына за руку, и все будет хорошо.
— Хорошо? За руку? По-моему, Лягушонок, ты не понимаешь в этом ничего.
— Нет, понимаю. Я видела, как это делают: берут за руку маленького мальчика или девочку, которые едва начинают ходить, и подводят к отцу, и тот становится довольный-предовольный и берет ребенка на руки, и они целуются и обнимаются.
— Кто целуется и обнимается?!
— Отец и сын, а потом и мать.
— Где ты это видела? В кино?
— Нет, в собственном доме. Я сама была этим ребенком. Ты тоже так сделай, и Хо станет обнимать и целовать ребенка, а потом и тебя.
— Лягушонок, дай мне теперь, пожалуйста, поговорить с твоей матерью.
— Ее нет.
— Тогда скажи ей, когда она вернется, чтобы она обязательно позвонила мне, хорошо?
— Хорошо. До свидания, Глэдис.
— До свидания, Лягушонок.
Я снова села за письмо к отцу и написала: «Я по тебе скучаю. Я хочу в Париж». Но я знала, что так писать не надо, и все зачеркнула. Теперь письмо было грязное, и я скомкала его и швырнула в корзину для бумаг. Потом я начала писать письмо Маме Девочке — ее ведь тоже не было дома. Я написала: «Позвони Глэдис. С любовью, Лягушонок».