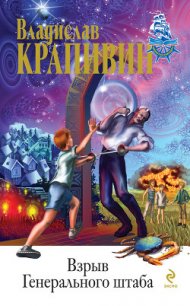В окопах Сталинграда - Некрасов Виктор Платонович (электронная книга .txt) 📗
Карнаухов смеется.
– У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках.
– Что кино… – не поворачиваясь, перебивает его Чумак, – мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запикировали…
Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.
Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.
В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.
За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.
Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
– Что – спать, лейтенант? – спрашивает Чумак.
– Нет, просто так, полежу.
– Слушать надоело?
– Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.
И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
– А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? – спрашиваю я.
– Хорошо.
– Лучше, чем здесь?
– Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.
– А по своим не скучал?
– По каким своим?
– По полку, ребятам.
– Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.
– А говорил, в госпитале хорошо, – смеется Карнаухов, – жри и спи…
– Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь – в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь – не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам.
Карнаухов собирает пистолет, – у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный «вальтер», – впихивает его в кобуру.
– Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?
– Три. А ты?
– Два.
– А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.
Карнаухов смеется:
– А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.
– Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых… Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.
Оба смеются, и Чумак и Карнаухов.
– Удивительная вот штука, товарищ лейтенант, – говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны, – когда сидишь в окопах, так кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное… Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками.
– А таких ты не видал, – перебивает Чумак; он вообще не может молча сидеть, – что за сто километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют – фронтовики, мол? У нас вот в госпитале был один…
Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери.
– Ты откуда это?
Карнаухов тоже смотрит на дверь.
Валега… Самый настоящий Валега – головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками. Стоит в дверях. В шинели, кажется моей, до самых пят. Мнется.
– Ты откуда взялся, Валега?
– Оттуда… От нас…
Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок…
– Тушенку принес, шинель…
– Ты с ума спятил?
– Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам.
– От кого?
– Харламов дали, начальник штаба.
– Это он тебя и послал?
– Вовсе не он. Я сам пришел… – Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. – Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чего-то толковали, с вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали.
Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную вчетверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано:
"5.10.42.12.15. КП Ураган
Товарищ лейтенант. Ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся в овраг, и уничтожения ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 (семь) человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим.
Л-т Харламов (Харламов)".
Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно барочным "X" и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающие вокруг нее.
Разрываю записку. Клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов! Неплохой он, в сущности, и старательный даже парень, только больно уж…
Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно.
– Шинель только мешала, не по росту. А так ничего. Там, левее чуть разрыв у них. Между окопами. Днем высмотрел, а ночью… Может, подогреть, товарищ лейтенант?
– Нет, не надо. Да и подогревать не на чем.
– Примуса ты не догадался притащить? – смеется Чумак.
Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол.
– Не стоит, Валега. И так слопаем. И мы, все четверо, с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь – тушенка!
– 14 -
Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого… Пять… Тишина… Шесть, семь… Светает. Мы перестаем ждать.
Еще один день, значит.
Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов – средних и даже тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах – не молодой уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
– Як же це так – без руки? – говорил он, осторожно укладывая привязанную к дощечке от патронного ящика руку на колено. – Без руки в нашому дiлi нiяк не можно. Краще б ногу вже.
Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Рот растянулся в страшную напряженную улыбку. Судороги захватили все тело. Он выгибался дугой, упершись пятками и затылком в землю. Кричал. Его невозможно было разогнуть.