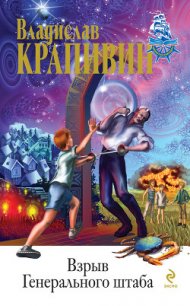В окопах Сталинграда - Некрасов Виктор Платонович (электронная книга .txt) 📗
– Это столбняк, – сказал Карнаухов, – у нас в медсанбате умер один от этого.
Через два часа раненый умер.
Его фамилия Фесенко. Я узнаю это из красноармейской книжки. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю. Это один из тех двух бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Они никак не могли объяснить связному тогда, где комбат.
В наш блиндаж попадает мина – стодвадцатимиллиметровая. Теоретически он должен выдержать – четыре наката из двадцатипятисантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя, перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей.
Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их четыре человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет.
Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. Бывают перерывы. Но не больше пяти – семи минут. В эти семь минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели.
Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, – наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, – выкуриваем втроем – я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны.
Вода приходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла: я наклонился, чтоб поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом литров десять, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли им давать. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит: «Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой…» – и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить.
После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера. Перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел.
Последнюю атаку мы отражаем, совсем уже выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники.
Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит…
Вечером мы подводим итог.
Людей – одиннадцать. Я, Чумак, Карнаухов, Валега, два связиста, четыре пулеметчика – по два на пулемет, и один рядовой боец, тот самый сибиряк, старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, трое раненых. Бредивший – к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых.
Пулеметов у нас четыре. Два вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно, у отечественных – от силы на полдня хватит.
Но главное – вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели наши этой ночью не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что, если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться.
Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую, измятую сигарету. Мы курим ее поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через два мы начнем так же думать о воде. В термосе не больше двух литров – пулеметный НЗ [неприкосновенный запас].
Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных, жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепился зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад.
Раненые утихли. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, – и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась.
Карнаухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
– Надо будет побаниться, – устало говорит он, почесываясь. – Соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и выкупаемся. Все тело зудит.
– Пока война не кончится, все равно не избавишься, – успокаивает Карнаухов. – Белье не прожаривают. Постирают в Волге – и все. А что толку от такой стирки?
Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики, бицепсами Чумака. По нему хорошо анатомию изучать.
– Вот кончится война, посадим Гитлера в бочку со вшами и руки свяжем, чтоб чесать не мог, – говорит он, не отрываясь от своей работы.
Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте.
Чумак натягивает на себя тельняшку. Встает.
– Эх, закурить бы..
– Да, неплохо бы. Хотя бы «Мотор» за тридцать пять копеек. Одну на троих.
– «Мотор»… Что «Мотор»? Мечтать так уж мечтать…
– Вы что до войны курили, товарищ лейтенант?
– «Беломор» и «Труд». В Киеве такие были, тоже два рубля.
– И я «Беломор»… Толстые, хорошие. Ленинградские особенно.
– Что вы после этого в папиросах понимаете, – говорит Чумак. – О «Беломоре» мечтают. «Казбек» – вот это папиросы. Я по две пачки выкуривал в день. Было времечко.
Он ходит взад и вперед по блиндажу. Два шага туда, два шага сюда. Потягивается, закинув руки за голову.
– Наденешь чарли – тридцать сантиметров, кепку на брови, бабу под руки, – пошел по Примбулю.
– Ты кем до войны был?
– Я? Шофером «ЗИС» водил. Потом на «Червоной Украине» служил. По Примбулю в Севастополе хиба ж так гулял, в беленьких брючках и с лентами до пояса. Надраишь мелом бляху, гюйс выгладишь, чистенький – «форма раз», только черноморская, белые брюки с клинушками, и па-ашел в город.
– Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб? А, Чумак?
Чумак останавливается. Как будто даже задумывается.
– О водке еще думал. О чем же еще. Денег – завались. Научным работником становиться не собирался. – Пауза. -А вот сейчас…
– Неужели простыл?..
Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова.
– Не то чтоб простыл… Но вот на войне… – Опять пауза. – Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана. Вместе выпивали, вместе морды били таким вот… – он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне, – таким вот субчикам. Но, в общем, не в этом дело.
Он садится на край стола. Раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может.
– В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а просто вместе на «Червоной» служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего – складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков…
В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку – все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола.
– В общем, не любил я его. Да и он меня…
Карнаухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой.
– Выбил я ему таки парочку. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело… Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в пятнадцати от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. И, хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну… А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок.