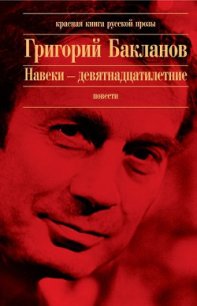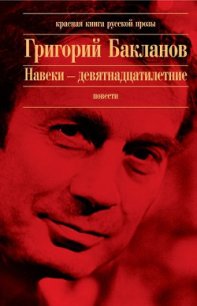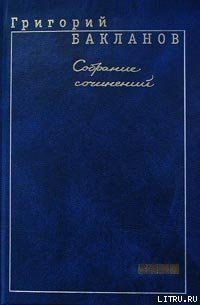Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читать книги без сокращений .txt) 📗
Когда перегрузившиеся едой и выпитым (а некоторые члены делегации — с брезгливостью наблюдал Евгений Степанович — еще и в сумки со столов, из ваз поспешно запихивали виноград, хурму), когда шли к своим машинам мимо огнедышащих печей, где на вертелах поворачивались над огнем уже не куры, а что-то громадное, должно быть, индейки, опять распахнулись узорчатые железные ворота этого колхозного санатория на берегу пруда. Двое почтенных старцев в полосатых халатах, подпоясанные косынками, в сапогах с калошами и в тюбетейках, идя друг от друга, развели ворота, и еще не выехала делегация деятелей культуры, а уже вслед за милицейской машиной с мигалкой въезжали академики, одни садились в машины, другие оживленно высаживались.
И опять они мчались полевой дорогой, встречно светившее солнце садилось, редкой красоты был азиатский закат, и вдруг замелькали, замелькали за стеклом справа возвращавшиеся с поля женщины с тяпками на плечах, они теснились к обочине, пыль, поднятая машинами, заволакивала их, укутывала и лица, и сухие икры ног, черные пятки.
Ночью — какой-то переполох, беготня по коридору гостиницы разбудила Евгения Степановича. Оказалось, прибыла «скорая помощь», композитору делают выкачивание — перекушал. Картина была не из лучших: таз на полу со всем тем, что выкачано из желудка, а на кровати — распростертый, бледный, синий, весь в холодном поту, композитор.
Врачей «скорой помощи» сменили обкомовские врачи, слабым голосом умирающего композитор жаловался из подушек: днем на базаре он съел манты, они так аппетитно выглядели… Вот эти манты и выходили из него, шлепались в таз, как лягушки, целиком он, что ли, их глотал?.. На всякий случай оставлена была при нем дежурить медсестра со шприцами и лекарствами. Евгений Степанович удалился к себе. Этот его здешний номер-люкс мог быть и получше, на белом потолке вокруг люстры грелись какие-то черные насекомые, каждое величиной с палец. Рухнет на тебя с потолка такая гадость, сколопендра этакая, иди гадай потом: тарантул это или скорпион?.. Все же решился, потушил свет. Но заснуть не давали тихие голоса: в холле, когда он проходил, сидели в пижамах, разбуженные беготней, члены его делегации, человек пять. «Спите, спите, ложитесь», — доброжелательно посоветовал он, проходя мимо. И пошутил: «Умирающий, как обещано нам, будет жить…» Но вот не ложились, разговаривали:
—…Рыба с головы гниет. Шофера видал? Каждый с собой еще по бутылке взял. Как не дашь? Наш секретарь тоже едет в район, сищас назнащают колхоз: ты будешь кормить. Кто он? Такой, как все, темный человек. Песни любит. Снащала хор северных районов, потом южные. Ботинки снимет, сидит в белых шерстяных носках, слушает, слезы утирает.
Они заговорили на своем языке, живо, привычно, Евгений Степанович навалил подушку на ухо, весь мокрый от жары, думал, засыпая: «Им есть на кого валить. На кого мы кивать будем?»
Утром, кроме милицейской машины, делегацию сопровождала еще и машина «скорой помощи». На границе Бухарской области были устроены торжественные проводы. Евгений Степанович целовал поднесенный ему хлеб, выпив положенную стопку, поцеловал в зарумянившуюся щеку девушку с дивной красоты косами, которая подносила хлеб на блюде и на полотенце. Не проехали и километра — еще более торжественная встреча в Самаркандской области. Опять все вылезли из машин, опять он целовал хлеб, а выпив вторую стопку, уже с удовольствием перецеловал всех девушек подряд.
Говорились приветственные речи, он тоже говорил, от тягостного зноя, от выпитого коньяка сидел он в машине весь потный, задыхающийся, уши словно заложило, и распирало сердце, тревога росла в нем. Он распустил галстук, на встречном ветру мокрый воротничок рубашки холодил шею.
Целый день шло это кружение — официальный прием (виноград, фрукты, сладости, рассказ о достижениях Самаркандской области), встречи с трудящимися на предприятиях, выступления… Под вечер, с многочасовым опозданием, привезли их в колхоз-миллионер. Председатель, грузный, коренастый, в высоких, под самые коленки сапогах с калошами, в галифе, со многими позванивающими при ходьбе орденами, показывал им прекрасный детский сад, стадион («Слушайте, такого и в городе не увидишь!» — восклицали члены делегации после не столь давнего застолья. «Вот что значит — порядок! Люди работают!»), потом привели их в помещение, где от порога весь пол был застелен чистыми половиками. Председатель снял калоши при входе, все сняли обувь с горячих от ходьбы ног, рассаживаясь, охотно подсовывали под стол ноги в потных носках, но запах острых закусок перебивал все остальные запахи. И только увидев перед собой еду, Евгений Степанович почувствовал, что с ним происходит что-то неладное: от одного вида холодного мяса его затошнило.
— А это что? — спросил он председателя. Они сидели не как полагалось бы по протоколу — друг против друга, — а рядом. Председатель сказал что-то неразборчивое, Евгений Степанович сквозь глушь и звон в ушах не расслышал.
— Это что-нибудь острое? — спросил он громче. Теперь председатель не понял его, улыбнулся застенчиво. И тут же, посуровев лицом, встал с рюмкой в руке. Тост его был длинен. Евгений Степанович, с привычным для такого момента выражением лица, не столько слушал, сколько думал о том, что теперь ему надо будет подняться, что-то говорить. Все чокались рюмками, привставая, он только пригубил коньяк, и спазмом подкатило к горлу, затошнило. Попробовал заесть, зеленая протертая закуска показалась несвежей: «Еще отравишься, черт знает, сколько она тут стояла на жаре…» Он поменял рюмки, налил себе гранатового сока, председатель вежливо не заметил. Надо бы пересилить себя, встать, что-то произнести, и чувствовал: не может. «Недоставало еще только хлопнуться…» — прошла паническая мысль. Владетельным жестом он отдал почетное право сидевшему напротив него известному московскому поэту, который до седых волос сохранил комсомольский задор, о нем обычно говорилось по радио: «Взволнованную речь произнес поэт такой-то…» И тот охотно, с рюмкой — в левой, взмахивая над собой правой рукой, заговорил громко, звонко, словно читал стихи.
Когда после холодной закуски должны были, как обычно, вносить горячее, председатель колхоза сказал, что их ждут на свадьбе молодые: колхозный механизатор и ветврач. «Пять часов ждут уже, — сказал он застенчиво. — Но это ничего…»
— Специально для нас приготовили подарок! — возликовал поэт.
— Но пять часов!
— Почему же никто не сказал?
— На свадьбу, на свадьбу!
— Ах, как неудобно!
С шумом, с разговорами, толпясь, надевали обувь. На улице седовласый поэт размашисто обнял за плечи хозяина, они шли, не попадая в шаг, и ордена и медали на пиджаке председателя звенели сильней. Заметив машину «скорой помощи», Евгений Степанович на всякий случай решил смерить себе давление, мутило его все сильней. Когда стал на подножку, откачнуло назад, кровь прихлынула к голове, он еле удержался, рукой схватившись за поручень.
Здесь подували сквознячки, и показалось, что в машине прохладно. На носилках, на одеяле, лежал композитор, читал газету, где уже были их фотографии. Он вполне пришел в себя, но на всякий случай постился и берег силы.
— Ну, как вы? — спросил Евгений Степанович, глухо слыша собственный голос. Врач накачивала грушу, манжетка на голой его руке вздувалась, больно сдавливала. «Ого!» — испугался он, увидев, на какой цифре задрожала стрелка тонометра. Врач, не меняясь в лице, еще раз накачала, цифры были еще выше.
И только теперь, когда он увидел, какое угрожающее у него давление, почувствовал озноб, его трясло, голова пухла изнутри, затылок был чугунный. Срочно уложили его на спину, и будто перекачнулась в нем вся жидкость, больней прилило к голове. Он сел. Врач во всем белоснежном, от этого еще более смуглая, с удлиненным разрезом глаз, протягивала ему таблетки и воду, и он губами с прохладной ее ладони взял таблетки. И так ему вдруг стало жаль себя, он почувствовал себя старым, захотелось, чтоб эта прохладная ладонь молодой женщины гладила его сейчас по щеке.