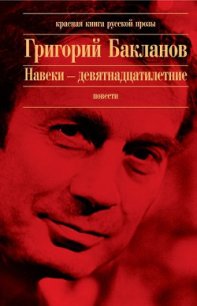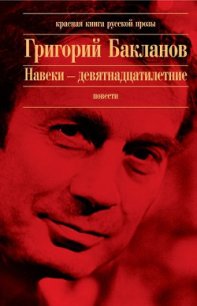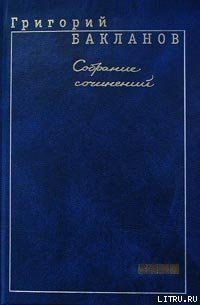Был месяц май (сборник) - Бакланов Григорий Яковлевич (читать книги без сокращений .txt) 📗
Случилось так, что она упустила котел, разморозила батарею в угловой комнате. Но главное — ложь, ложь, которая вскрылась, вот что самое отвратительное.
В каждой семье есть то, о чем не упоминают, иначе жизнь станет невозможной. У них был сын Дмитрий. Они долго подбирали ему имя, созвучное отчеству. Туго спеленутого столбиком (одна голова наружу), его приносили кормиться к груди, а они уже думали о его будущем, заранее готовили к тому времени, когда к нему будут обращаться по имени-отчеству. И шли записки от Елены из роддома — к нему, от него — к ней. Наконец согласились: Дмитрий Евгеньевич. Звучало хорошо.
Дмитрий был высок ростом, выше отца на голову, красивый парень, спортсмен, умница. У него был абсолютный слух, в шесть, в восемь лет он сочинял песенки, сам подбирал на пианино, но песенки песенками, а учителя уверяли, что его ждет карьера блестящего пианиста. Теперь бы это все, когда Евгений Степанович располагает такими возможностями! Но, играя с мальчишками, Дмитрий нашел запал от гранаты (скорей всего, мальчишки нашли, установить ничего не удалось), запал взорвался, и Дмитрию оторвало на руке мизинец и безымянный палец. И он в двенадцать лет не домой побежал, как сделал бы каждый ребенок, а, сопровождаемый мальчишками, сам пошел в больницу, там ему все обработали, сделали перевязку, и он сознательно дал неправильный телефон родителей, чтобы не могли дозвониться, вот такой характер! Боялся, что его будут ругать, поскольку теперь не сможет играть на пианино. И рассказал только бабушке. И эта дура старая раскрылилась, как курица, собою заслоняя его. Излишне говорить, что у Евгения Степановича все это не прибавило к ней чувств, даже Елена, а следом Ирина перешли с ней на «вы».
Дмитрий обладал золотым качеством, которое в жизни открывает многие двери: он располагал к себе людей. Но чаще всего это были ничего не значащие люди. «Пойми, — говорил ему отец, — тех, кому ты нужен, легион. Помани, и навесят на тебя все свои горести и болести, подставься, и вспрыгнут на шею. Ты людей не знаешь».
Он рассказывал сыну, как в одной из поездок, в автономной республике, на прощальном банкете распорядитель шел за спинами и показывал официантам, кому что следует подавать: «Щай, щай…» И почтительно: «Кюмис!» Так вот, хочешь, чтобы тебе подавали кумыс, приглядывайся к жизни.
И все же временами с горечью замечал: в той среде, где он свой человек, Дмитрий тускнеет, тяготится, а главное, его не чувствуют своим. И на Евгения Степановича поглядывали недоуменно: его ли это сын? Но Евгений Степанович не сомневался — молодость пройдет, а жизнь уму-разуму научит, она не таких обламывала. Верно кем-то сказано: кто до двадцати пяти лет не был либералом — подлец, кто и после тридцати все еще либерал — идиот. Дмитрий был парень с головой, и его ждало большое будущее, особенно если учесть, что и отец его не последний человек в государстве, где все так или иначе связаны между собой. Тысячелетний этот порядок вещей не нравится только тем и только до тех пор, пока сами рвутся к креслу, но, сев, постигают быстро, что жизнь неглупо устроена и порядок надо не разрушать, а укреплять. Да, Дмитрия ждало будущее, а вместо этого — глупая женитьба. Маленькая, хищненькая дрянь (Елена все разведала про нее, все вызнала, собрала необходимые сведения), маленькая дрянь эта схватила их сына, нарочно поскорей забеременела, чтобы уж не выпустить его из рук.
А уже была присмотрена девушка их круга (там как раз расстроился неудачный роман), и как-то, сидя с ее отцом в президиуме весьма важного совещания, а потом, в перерыве, в комнате президиума закусывая бутербродами с белой рыбкой, держа тонкие эти бутерброды в пальцах, разговорились, и дело начало слаживаться. Вскоре в театре места их случайно оказались рядом: девушка с матерью и отцом, Дмитрий с отцом и с матерью. Старомодно? Ничего. Потом перезвонились по телефону: Дмитрий произвел благоприятное впечатление. Словом, перспективы на будущее открывались прекрасные: с одной стороны — Евгений Степанович, с другой — ее отец. Такое сложение сил… И вдруг выясняется, Дмитрий даже толком не разглядел ее и вообще слышать о ней не желает, а намерен преподнести им родственников откуда-то из Молдавии, из Бендер. Да если на то пошло, в какое положение он ставит их, подумал он, как его отец будет выглядеть перед отцом той девушки? Это же оскорбить, наплевать в лицо, такое не забывается!
За день до того, как Дмитрий собирался привести в дом свою так называемую невесту, представить родителям, Евгений Степанович решил поговорить с ним кардинально. Конечно, лучше было бы, чтобы Ирина вразумила его, брат и сестра легче поймут друг друга, но, к сожалению, между ними мало общего, результат мог получиться обратный. Решили, поговорит он, и он сразу взял быка за рога:
— В чем, в чем, но в антисемитизме, в позорном этом явлении, меня, как ты знаешь, упрекнуть нельзя. Скорее наоборот. Да, у них есть определенные черты, которые раздражают. И тем не менее, если посчитать, у нас в Комитете предостаточно лиц определенной национальности…
— Ты посчитал?
— Мне не надо считать, считают, мне уже указывали на это. Но я сказал: для меня главное не фамилия, а деловые качества.
— Я знаю, ты рассказывал много раз.
— И придерживаюсь этого принципа. Три года мы сидели в аудитории на одной парте с Леней Оксманом, и только чудо спасло меня, когда его арестовали. Мы с ним дружили в годы, когда…
— Отец, у каждого антисемита есть свой любимый еврей.
Евгений Степанович отложил газету, которую он как бы читал, когда Дмитрий вошел к нему.
— Я не осуждаю тебя, я понимаю: чувство сильнее разума. Особенно в твои годы.
Он сел на тахте, босые, по-зимнему белые ноги искали тапочки, возили ими по полу. В квартире было тепло, и дубовый, хорошо навощенный паркет был теплый, живой, приятно ступить босой ногой. Он заранее продумал их разговор, мысленно поставил всю мизансцену. Можно было говорить умудренно, с позиции прожитой жизни, но он чувствовал: это не годится. Можно было поговорить строго, в конце концов это его сын, его судьба им небезразлична, да и жить они, наверное, собираются здесь, в их квартире. Евгений Степанович выбрал иной вариант: это будет домашний разговор отца с сыном, возникший как бы случайно. Важно создать момент откровенности. И он специально надел халат, который ему подарили во время декады какой-то из республик в Москве, теперь он уже не помнил, какой именно: много было декад и много поездок. Но что-то в этом продуманном, поставленном и мысленно проигранном на две роли разговоре с первых слов не пошло, не создавался момент искренности, он чувствовал противодействие.
— Я не хотел специально подымать эту тему, я это подчеркиваю…
— Отец, подчеркивают у нас от министра и выше: министр такой-то подчеркнул. А ты пока не в том ранге.
Он хотел пошутить, но улыбнулся зло. У Евгения Степановича даже сердце защемило: дурак, какой дурак! Ощетинился, как волчонок. Неужели не видит, куда мир катится? И он своим этим поступком думает мир удержать?
— Мы с матерью, — продолжал Евгений Степанович ровным голосом, — знаем, она определенной национальности.
— Не «определенной национальности», она — еврейка. Ну переморщись, отец, ну пересиль себя. Что уж ты так даже слова этого стыдишься, произнести не можешь.
— Для меня лично это не играет значения…
— Оно тебя по ушам хлещет.
— Я… хотел сказать, не играет роли… Не я стыжусь, они сами себя стыдятся. И я не хочу, чтобы моему внуку пришлось стыдиться себя в своей стране. Не хочу! Если у меня, допустим, будет внук.
Дмитрий сидел бледный. И вот такой, бледный, был еще красивее: брови черные на белом лице, волосы пепельные, прямые, мужественное, совершенно уже мужское лицо. И такого отдать! Ах, какая дрянь, уже настроила против родителей, сумела! Но Евгений Степанович и на этот раз сдержался.
— Давай поговорим совершенно откровенно. Да, нам с матерью небезразлично, что у нее значится в пятом пункте, если уж на то пошло. Не нам с матерью, я подчеркиваю… — он поперхнулся словом. — Да, да, подчеркиваю, черт возьми, и хочу подчеркнуть: не нам с матерью, жизнь такова. А тебе жить. И ты знать должен: правят не цари, а времена. Каковы веки, таковы и человеки. Я уж не говорю о твоей карьере, но ты подумал, повторяю, о детях, если они вдруг будут?